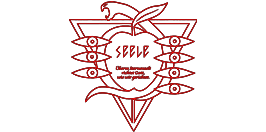Стесняюсь спросить, но когда будет прода?
Ф. Вихрев (в соавторстве). Мой неожиданный сиамский брат
Сообщений 41 страница 48 из 48
Поделиться4214-02-2016 19:12:09
Пока проект слегка застопорился. Но надеюсь на неделе выложить очередной кусок.
Поделиться4313-07-2016 03:16:32
Будет ли продолжение?
Поделиться4418-08-2016 22:26:44
XXV. В тихом омуте…
Андрей Андреевич Громыко с омерзением смотрел на, ковыляющего рядом человека. – «Что же за люди то такие пошли - мразь на мрази. И такие вот работают в самом центре, где должна создаваться партийная идеология. Чистыми, так сказать руками О времена, о нравы»
Понятно, что сразу после съезда партийный аппарат затаился. В конце концов, Генеральный Секретарь не сменился, был избран практически старый состав Политбюро, противостоять этому было как то… не с руки, если учесть сколько людей в этом участвовало. Да и карьерные возможности после реформ… Утвердили же предложения по реформам на съезде. Но потом, как только стали доходить нехорошие последствия принятых решений для интересов партбоссов на местах, аппарат начал потихоньку консолидироваться, подыскивая единомышленников. А оружия для борьбы с новыми идеями Генсека у региональных партийных элит было достаточно - пока…
Потратив два месяца на согласование позиций по здравницам, санаториям да через верных людей - элиты уяснили, что существуют две группировки, интересы которых разошлись сразу по окончании съезда. Одна – сам Генсек и верные ему люди, включая руководство КГБ и большую часть его аппарата, большая часть военных руководителей, аппаратчики, получившие реальные . Вторая группировка - группировка Громыко – Черненко - Устинова, оттесненная от своих постов и стремящаяся к реваншу. Ведущим в этой связке был все же Громыко, мистер «нет», почти бессменный министр иностранных дел СССР, человек иезуитской хитрости. К ней примкнули и разгромленные остатки консерваторов - сусловцев. Примкнули, чтобы не быть окончательно оттесненными от власти. Брежнев менялся непредсказуемо, словно забыв все предыдущие негласные договоренности.
Первую встречу для определения позиций сторон - назначили в санатории, принадлежавшему Управлению делами ЦК КПСС, по странному стечению обстоятельств, том же самом, в котором до съезда Громыко договаривался с Сусловым. В этот санаторий снова лег на обследование член ЦК КПСС Громыко, и в то же время в санатории оказался Петр Александрович Родионов, заместитель директора Института Марксизма-Ленинизма, Директор института был недавно арестован за измену Родине, и.о. назначили со стороны и Родионов был этим сильно недоволен.
Вот сегодня Громыко вышел из процедурного кабинета, где дышал кислородом на какой-то немецкой машине и, кашляя после процедуры, прошел коридором к другому кабинету, где у академика был назначен массаж.
Дверь была на замке. Прислушавшись, Громыко понял, в чем дело.
- Ходок старый…- выругался он, стуча в дверь условным стуком. За дверью раздалась какая-то возня, потом, минуты через три дверь открылась. Внешне все было уже совершенно пристойно. Девица, одетая в очень короткий медицинский халатик, короче, чем обычный, заканчивала массировать лежащего мужчину, укрытого по пояс покрывалом.
- Заходи, Андрей Александрович… Я тут… кхе-кхе… задержался немного. Сейчас оденусь.
«Совсем страх потеряли, - подумал Громыко. Что в институте вся профессура спала со студентками и аспирантками, было давно известно. Девушкам защититься без этого было практически невозможно. - Моральное разложение, тем более в таком месте. По правилам - клади партбилет на стол и пошел отсюда. Подбросить что ли в Политбюро идейку, что в ИМЛ не все благополучно… тем более сейчас. А то совсем страх потеряли…»
Академик медленно оделся, подмигнул Громыко и предложил пройтись.
- Заходите еще, Петр Александрович, - с намеком сказала медсестра.
- Обязательно зайду, кисонька. Обязательно…, - ответил
Дверь закрылась.
И они не торопясь пошли по коридору.
- С ума сошел? - наконец спросил Громыко.
- Да ты что, Андрей Александрович, дело-то житейское…
- Ты цитатой Ленина прикройся, - грубо оборвал его Громыко, - Из цитатника Ленина, который твои девятый год готовят, и все никак закончить не могут.
Родионов промолчал. Аморалка – такое дело, за которое и соратники могут приложить по полной программе. Особенно в настоящее, трудное для всех время.
- Ну не злись, Андрей Александрович. Бес попутал.
- Мне то что… - внезапно успокоился Громыко - тебе перед товарищами по партии отвечать, не мне…
- Товарищи партии… да-а, - протянул собеседник. - Ты мне лучше скажи конкретно, товарищ Громыко, как член партии члену партии - вот что у нас сейчас в партии и странепроисходит, а?
Легкомысленная интонация и непристойные намеки не соответствовали серьезности обсуждаемого вопроса. Громыко застал еще те времена, когда за такие разговоры, да что там – за намеки на них можно было получить «десять лет без права переписки», поэтому посмотрел на Родинова так, что тот невольно поежился.
- Ну и что в ней такое происходит? Ну-ка, поясни…
-А то ты не знаешь. Генерального секретаря словно подменили…, заслуженные кадры шельмуют. Республиканские партии разгоняют… Новый тридцать седьмой готовят?
- Охренел? – уже не сдержался бывший министр иностранных дел, непроизвольно оглядываясь, и снова посмотрел на замдиректора. Да так, что тот испугался уже по-настоящему.
- Да ты чего, Андрей Александрович… - заканючил Панкратьев -. Я же преданный делу партии человек…. Понимаю, как дела делаются.. Но и ты пойми – нельзя так с партией. Полный отказ от ленинской политики партийного строительства, дискриминация национальностей. Так и до отмены союзных республик дойдет. Волюнтаризм. Кончится, как у Хрущева. Или ты так не думаешь?
- А еще кто так думает? – надавил на собеседника Громыко.
- Многие, -попытался уклониться Родионов, но не выдержав взгляда «мистера Нет», ответил. – Например, Титаренко с Украины, Багиров и Везиров из Азербайджана, Демирчан, Арутюнян…
- Понятно, - неожиданно оскалился в подобии улыбки Громыко. – Сколачиваете оппозицию?
- Какая оппозиция, Андрей Александрович, вы что…, - совсем перепугался Родионов.
- Ладно, ладно, не тушуйся, - подбодрил его Громыко. – Не вы одни волюнтаризм увидели. Значит так … - и он начал инструктировать своего будущего союзника, как и когда собрать сторонников. Одновременно думая:
«Соратники, вашу мать так… Плечом к плечу… Противно, но придется терпеть эту мразь… пока. Но погодите, сволочи. Вот возьмем власть, я вам все прегрешения припомню».
XXVI. Синее море, только море за кормой.
Приписанное к Северному Морскому Пароходству, судно носило гордое имя «Туман». Для тех, кто не слишком интересовался историей, это название ничего не говорило. А моряки, особенно с Севера, уважительно кивали, читая название и порт приписки – Архангельск. Про подвиг бывшего рыболовного траулера, переоборудованного в сторожевой корабль и отважно сражавшегося сразу с тремя немецко-фашистскими эсминцами, помнили многие. Хотя иногда и удивлялись, что сухогрузный пароход с таким названием и такой припиской почему-то используется как банальный трамп в столь отдаленном от своего порта районе, как Индийский и Тихий Океан. Но удивлялись не сильно, мало ли какие соображения у начальства, возможно получаемая за такие рейсы инвалюта, которой так не хватает СССР, вполне окупает столь экзотические рейсы. Время от времени, надо признать, в некоторых газетах региона, преимущественно почему-то тех, что обычно относят к «желтой прессе», появлялись статьи о том, что этот советский пароход не зря коптит небо в столь отдаленных от своего порта приписки водах. Всякому же информированному человеку ясно, что занимается его экипаж, состоящий из агентов Кей-Джи-Би - разведкой и распространением коммунистической пропаганды, а не перевозкой грузов. Впрочем, в истинность этих статей не верили даже авторы. А «серьезные люди» из государственных контор – тем более. Особенно учитывая отсутствие у них привычки не только проверять сведения из таких источников, но и читать «желтые» газетки.
Но в данном случае, похоже, правы были именно журналисты. Было, было нечто загадочное на этом судне. Начиная с четверки молодых людей, состоявших в экипаже сверх обычной численности, несколько необычных отношений капитана и помполита и заканчивая не совсем обычной каптеркой, расположенной рядом с основными танками горючего. Были на этом кораблике секреты, были. Но оберегаемые столь тщательно, что ни одна посторонняя пара глаз их пока не засекла. Так что внешне все оставалось вполне обыденно – торговый пароходик, перевозящий по морю грузы.
Вот и сейчас «Туман» шел по Персидскому заливу с грузом, загруженным в Индии. Грузом, который с нетерпением ждали в воюющем Ираке. А может и не очень ждали, потому что пароход шел не самым быстрым экономичным ходом. А потом вообще задрейфовал, сообщив в пароходство о неисправности в силовой установке и вывесив соответствующие сигнальные флаги.
Пока в машинном отделении механики, вспоминая различные сочные, пусть и совсем неприличные выражения, разбирали что-то в механизмах, в небольшом, но уютном помещении «второй каптерки» собралась вся четверка молодых, помполит и корабельный врач. Быстренько осмотрев четверку, как стало заметно после того, как они разделись - крепких, явно тренированных молодцов, доктор повернулся к начальнику - Допускаю, - ставя подпись в протянутом ему «помполитом» журнале, произнес он.
- Отлично. Иваныч, ждем через два часа, - оскалился, изображая улыбку, «помполит». Дождавшись, пока доктор покинет «каптерку», он строго посмотрел на невольно подтянувшихся подчиненных. – Слушай приказ…
Через четверть часа наблюдатель, если бы таковой оказался в море неподалеку от «Тумана», мог бы увидеть как внезапно в борту, в паре метров ниже ватерлинии, открылся продолговатый люк. Из него выскользнули, таща за собой что-то вроде длинных сигар, двое в характерном снаряжении: обтянутые гидрокостюмами тела, двойные баллоны, выгнутые гофрированные шланги, широкие ласты. Над пловцами не поднималось ни единого пузырька отработанного воздуха – аппараты замкнутого цикла, удобнейшее приспособление для тех, кто хочет остаться незамеченным в глубинах моря. Вслед за первой парой из люка вынырнула вторая. На этот раз они вытащили за собой что-то вроде большого контейнера обтекаемой формы. Повозившись пару минут с контейнером и, похоже, добившись нужного результата пары аквалангистов ухватились за «сигары», оказавшиеся чем-то вроде подводных мотоциклов и, буксируя за собой контйнер, помчались куда-то в сторону от продолжавшего дрейфовать корабля.
Примерно через три четверти часа бешеной подводной гонки они вдруг остановили моторы своих транспортных «торпед». По инерции проплыв еще с десяток метров, пловцы наконец повисли в воде, словно потеряв цель своего путешествия. Но затем, оставив одного охранять парящие в синевато-прозрачной глубине сигары транспортеров, трое подводных пловцов двинулись дальше, волоча за собой контейнер.
Плывший первым напрягся, когда впереди стала заметна металлическая конструкция, что-то вроде большого металлического острова, стоящего на нескольких опорных столбах. Между ними вниз, теряясь в глубинной полутьме, уходила толстая труба, словно гигантский хвост, упирающийся в самое дно. Двое, буксирующие контейнер, замерли, повинуясь жесту первого пловца, который старательно водил головой, осматриваясь. Вокруг неподвижно висящих в воде акванавтов тотчас же собрались стайки любопытной рыбьей мелочи, прыскавшей в сторону даже при лениовм движении лат, удерживающем пловцов на месте.
Неожиданно из сине-зеленой полумглы к висящим в воде пловцам устремились характерные темные силуэты. То же снаряжение, такие же повадки. Казалось, навстречу мчатся двойники аквалангистов, причем в двое увеличенном количестве. Блеснувшие в руках полоски металла и явно агрессивные намерения шестерки встречающих, казалось, должны были смутить пришельцев. Но не тут-то было. кроме рыбок, рванувших во все стороны от места предстоящей схватки, никто не испугался.
Первый из приплывших пловцов извернулся плавным движением. Неожиданно висящий сбоку непонятный предмет оказался в его руках. Черное, слегка похожее на автомат Калашникова, но необычным магазином, оружие задергалось в ритме которотких очередей. Вокруг ствола и в районе затвора тысячами пузырьков забурлила вода. Не ожидавшие ничего подобного атакующие резко останавливались, словно на наткнувшись на невидимую стенку. Подводный бой жестокий и происходящий практически в тишине, закончился неожиданно быстро. Расползающиеся бурые облачка, нелепое дерганье черных силуэтов, в конвульсиях уходивших на дно… и быстрые действия пришельцев. Пара, буксировавшая контейнер, резко ускорилась и, проскользнув к центральной трубе, поднялась куда-то выше и некоторое время занималась чем-то весьма трудоемким. Оставшийся один первый пловец продолжал осматривать окрестности, патрулируя по кругу с автоматом наизготовку. Наконец пара закончила свою работу и тройка пловцов, сделав прощальный круг, удалилась курсом на юг…
Еще через полтора часа на «Тумане» убрали сигнал о неисправности машин. Судно начало набирать ход, когда над ним промчалась четверка самолетов с красно-бело-черными кругами на крыльях и такой же расцветки прямоугольным знаком на хвосте. Они прошли низко, словно стараясь задеть мачты пароходика, оглушив ревом двигателей собравшихся на палубе зевак, резко развернулись и ушли куда-то в сторону севера.
- Ничего себе, - выдохнул один из матросов. – Иранские, что ли? Не наши МиГи, точно.
- Не наши, - подтвердил второй. – Иракские, французского производства «Миражи» Ф.1.
- И откуда ты все знаешь? – поразился первый.
- Так надо не только братьев Вайнеров и инструкции по обслуживанию машин читать, - усмехнулся его собеседник.
По приходу же в Умм-Каср моряки узнали, что война резко обострилась после нескольких налетов иракской авиации на нефтяные платформы Ирана и разрушения нескольких из них.
Закономерно, что цены на нефть при таких новостях начали повышаться…
Синее море, только море за кормой.
XXVII. Красиво жить не запретишь…
Вано Гургенидзе, старший официант ресторана «Иверия» чувствовал себя не слишком уютно, несмотря на малочисленность гостей. Просто потому что знал, какие люди собрались сейчас в зале закрытого «на спецобслуживание» ресторана. Нет, каких-либо скандалов или драк Вано не ждал. «Воры в законе», конечно, не в ладах с уголовным кодексом, но при личной встрече силовые разборки устраивать не будут, как и хамить «халдеям». Но все равно, томило опытного официанта какое-то неявное предчувствие чего-то нехорошего. Он даже прошел на кухню и посмотрел на работу поваров, пока шеф-повар не рассердился и не отправил его в зал, заметив, что лишних людей ему здесь не надо.
Да, человек, знакомый с уголовной средой, был бы поражен, увидев, какие авторитеты криминального мира Союза собрались в закрытом зале этого ресторана: Вячеслав Иваньков — Япончик, Дед Хасан, Васька Бриллиант, Сво Раф, Алимжан Тохтахунов — Тайваньчик, Амиран и Отари Квантришвили, Анзор Кикалишвили… Хотя был апрель месяц — самое, пожалуй, прекрасное время в Тбилиси, красоты грузинской столицы нисколько не интересовали собравшихся здесь. Как, впрочем и вкус приготовленных со всей тщательностью блюд. Как понял Вано, они больше были заняты предстоящим разговором. Как раз тогда, когда старший официант заглянул в зал, слово взял вор в законе Джаба Иоселиани, по личной инициативе которого и была созвана сходка. (Вор в законе, доктор филологических наук, советник Эдуарда Шеварднадзе — такова краткая биография Джабы Иоселиани…)
— Друзья,- сказал Джаба,- мы должны признать, что настали новые времена. И политические деятели, и «цеховики» любят говорить, что нет сильной политики без сильной экономики. Эту мысль подтверждает пример мощных государств Америки и Европы. Заметно это и у нас, в Советском Союзе. Хотим мы или не хотим, но должны принимать участие в политических процессах, которые явно идут не в ту сторону… А еще точнее — мы, независимо от нашей воли, уже участвуем в политических процессах. Хотя бы наш брат Отарик…
Поделиться4505-03-2017 06:13:02
"Уж полночь близиться, а Германа всё нет." (с). Поскольку проды нет, то выложу кусок книги Хедрика Смита "Русские" тема поздний СССР. Может с подвигнет автора на проду.
Введение
Незадолго до того, как в середине 1971 года, собираясь в Россию, я встретил Марвина Калба из СиБиЭс, память которого о его первом дне в Москве была всё ещё свежей. Он ездил туда в январе 1956 года, в неопределенное время после смерти Сталина и как раз перед тем как Хрущёв тайно сообщил о сталинских чистках.
В качестве младшего дипломата, Калбу был предоставлен его первый выходной день, и он смог побродить по Москве для того, чтобы ознакомиться с обстановкой.
Когда он ехал на метро к Красной площади, то заметил недалеко от себя человека, пристально разглядывавшего его. Его мозг пронзила мысль о том, что это может быть «хвост», но он её отбросил как глупую фантазию. Тем не менее, когда он вышел из метро, человек шёл за ним, словно тень.
Когда он останавливался, чтобы рассмотреть витрину, тень тоже останавливалась и рассматривала её. Когда он переходил через улицу, тень тоже переходила через неё. Когда он ускорял или замедлял шаг, тень приноравливалась к его ходу. Наконец, несмотря на холодный зимний день, Калб подошёл к одному из продавцов мороженого, которые торгуют вне зависимости от времени года. Он купил два эскимо на палочке и, даже не оборачиваясь, протянул руку за свою спину, предлагая эскимо.
Тень взяла предложенное без единого слова. Так они продолжили прогулку, целый день, тандемом, не разговаривая.Его рассказ был как бы страницей из плохого шпионского романа, только этот случай имел место в действительности.
Это был один из таких причудливых эпизодов, который внедряется в ваше сознание, когда вы собираетесь отправиться в Москву.
И для меня, как для журналиста, собирающегося в Москву с целью пробиться к русским для того, чтобы понять, как они видят себя, он послужил неявным вызовом.Однако очень быстро я обзавёлся опытом, который заставил меня подумать, что в конце концов, заглянуть в русскую душу будет не так уж и сложно.
Однажды вечером, после концерта Дюка Эллингтона, устроенного в рамках советско-американского обмена, мы с моей женой Энн ехали домой в редакционной машине, в большом чёрном Шевроле «Импала», казавшемся неприлично импозантным рядом со спартанскими малолитражками, в которых передвигаются русские.
Хотя было всего одиннадцать вечера, центр Москвы был практически пустым, тротуары освещались бледным люминесцентным светом уличных фонарей.
То тут, то там люди ловили такси или останавливали проезжающих частников с просьбой подвезти. К моему удивлению, группа молодых людей радостно замахала нам руками, несмотря на то, что, по моему мнению, они подвергались риску преследования за недозволенный контакт с иностранцами. Мы остановились и подобрали их.
Они возвращались со свадьбы в ресторане, и были явно в настроении продолжить вечеринку. Когда мы подъехали к тому месту, где они жили, они внезапно пригласили нас в гости, выпить.Это была типичная русская встреча.
Все они, мужчины и женщины, были врачами или студентами-выпускниками медицинского факультета, почти все женатые и замужем, в среднем возрасте 25 лет.
Миша, худощавый, бледнолицый, задумчивый молодой человек, который, как оказалось, был хозяином квартиры, говорил на вполне приемлемом английском.
Другие сказали, что читают на нём, и немного знают, поэтому мы болтали на смеси языков.
Они захотели сидеть в машине все вместе и, каким-то образом, разместились всемером на заднем сиденье. Они были очарованы американской машиной, её дизайном, размером, мощью, комфортом, скоростью, приспособлениями, и были очень рады возможности пообщаться с американцами.
Мы припарковались наискосок от их подъезда, а не прямо у него.
Миша предупредил нас, чтобы мы не говорили по-английски при входе в здание и мы проскочили мимо dezhurnaya, сидящей у лифта, старой женщины, закутанной в отвисший свитер, наблюдавшей за входящими и выходящими.Квартира Миши, первое русское жилище, которое мы видели, была маленькой и редко обставленной, но удобной для обитания двоих однокомнатной квартирой: спальня-гостиная, небольшая кухня, ванная и туалет. Все вдевятером мы сели компактной группой на диван - кровать, и вокруг него.
Разговор, вначале очень сдержанный, вёлся о концерте Эллингтона (никто из них не мог на него попасть, потому что билетов простым русским нельзя было купить), о западной музыке и моде, о моей семье, работе, жизни на Западе, и лишь чуточку о России.
Миша и его супруга Лена с миндалевидным разрезом глаз, молодожёны, могли мало что предложить гостям, за исключением того, что русские считают самым необходимым: пару бутылок водки, вынесенных тайком из ресторана под чьим-то пальто, два больших мокрых солёных огурца, и краюхи хлеба.
Явился разнокалиберный набор стопок, стаканов и кружек для водки, которую, согласно русскому обычаю, мы пили неразбавленной – запрокидывая голову, и делая один быстрый глоток.Таким было наше приобщение к этому основному ритуалу русской жизни, и присутствовавших забавляла наша робость. Они быстро дали нам краткий курс преодоления смертельной водочной атаки: выдохнуть перед глотком, сразу же закусить.
Девушки, со страшной гримасой после каждого глотка, быстренько откусывали кусочек огурца, который затем передавался по кругу.
Другие отщипывали от хлеба.
Миша рассказал, что во время войны, когда хлеба не хватало, заядлые выпивохи передавали по кругу корочку хлеба и каждый её просто нюхал, не откусывая.
Для них понюшка была достаточным противодействием водке. Он продемонстрировал, как это делалось, и протянул мне хлеб со стопкой водки. Я выпил водку, понюхал хлеб и зашёлся в кашле. Вся комната залилась смехом. Миша попытался заставить меня проделать это снова. Я отрицательно покачал головой. Нет, он имел в виду только хлеб, и на этот раз настоял, чтобы понюшка была глубокой.
Я вдохнул этот влажный насыщенный земельный аромат русского чёрного хлеба.
Кивнул в ответ, всё ещё не понимая, как этот вдох, каким бы питательным он ни был для ноздрей, мог загасить тот огонь, который всё ещё жёг моё горло.Так всё и продолжалось, в достаточно невинной манере, до тех пор, пока водка не кончилась, примерно до трёх ночи. Перед тем, как расстаться, мы обменялись номерами телефонов и заверениями в дружбе. Ещё раз Миша прошептал, чтобы мы не говорили по-английски, когда провожал нас до выхода мимо полусонной бабушки у лифта. Мы попрощались снаружи у подъезда, но лишь после того, как Миша и Лена ещё раз попросили нас не терять контакта. «Мы должны снова собраться» - настаивал Миша.
Мы с Энн поехали домой, удивлённые простотой общения, дружелюбием молодёжи и их неиссякаемым любопытством по поводу Америки.
Про Россию мы узнали мало, если не считать способа употребления водки, но мы преодолели, казавшийся до этого непроходимым, барьер на пути человеческих контактов.
Когда мы отъезжали от места стоянки, на какой-то момент мне показалось, что в зеркале заднего вида я увидел свет зажегшихся фар.
Машина не поехала за нами, но, возможно, остановилась передом Мишиным домом. Т
ем не менее, мы поздравили друг друга с тем, что нам удалось так быстро добиться расположения русских молодых людей.На следующий день мне удалось добыть два билета на концерт Дюка Эллингтона, и я решил подарить их Мише и Лене в знак признательности, и позвонил им по их квартирному телефону, чтобы сообщить об этом.
Ответа сначала не было, потом на другом конце провода мне сказали, что я ошибся номером.
Другие журналисты уже сказали мне, насколько ненадёжна московская телефонная сеть, поэтому я продолжал звонить.
Но после того, как один и тот же женский голос мне ответил два раза подряд, я решил, что дело явно не в телефонной сети.
Вечером мы поехали, чтобы доставить билеты лично.Dezhurnaya отсутствовала и лифт не работал. Мы поднялись пешком на восьмой этаж. Лена была дома, удивлена, но рада, что видит нас так скоро, и очень довольна билетами. Я упомянул о проблеме с телефоном, и мы проверили номер.
Он был абсолютно тем же, за исключением последней цифры.
Вместо 6 Миша написал 7.
Дело было явно не в неразборчивом почерке.
Цифры были выведены чётко и ясно.Я исправил номер, и мы ушли, передав привет Мише и получив заверения Лены о том, что нужно обязательно встретиться после концерта.
В течение последующих нескольких недель я звонил несколько раз. Миши никогда не было дома, он был на работе, в командировке, у родителей.
Но Лена всегда, как мне казалось, была рада поговорить. Однажды мы даже обсудили возможность встретиться, когда Миша будет свободен. Однажды вечером, когда я позвонил, Лена сказала, что я смогу застать его у его родителей и договориться о встрече. Она дала мне номер телефона. Когда я позвонил, ответил Миша.
Но когда я назвал себя, он положил трубку. Я позвонил снова. Номер был занят. Я перезвонил Лене и сказал, что, очевидно, Миша не хочет нас больше видеть и извинился за беспокойство. «Мне очень жаль». – сказала она. «Вы же понимаете?»Я положил трубку. Я был обескуражен, но вместе с тем и стал умнее. Хотя в первые дни моего пребывания в Москве за мной не следовал такой явный хвост как за Марвином Калбом и я так быстро обзавёлся контактами, мне стало ясно, что подобраться к русским и завести среди них настоящих друзей будет задачей не из простых. Куда более сложной, чем я думал вначале. Потом я встретился с людьми с Запада, которые тоже завели «одноразовых друзей» среди русских, и не могли продолжить знакомство с ними.
Спустя несколько недель, когда я разговорился с опытным американским дипломатом, работавшим в Москве в разные времена – при Сталине, Хрущеве и Брежневе, я рассказал ему о Мише и Лене.«Ага», - сказал он. - «Вот так ты понял, что железный занавес – это не есть колючая проволока на границе между Австрией и Чехословакией, но он находится прямо тут, в Москве, и ты его можешь потрогать пальцами. Ты можешь протянуть им руку, можешь жить среди них, прямо тут, и так и не узнаешь, как на самом деле они живут. Контроль настолько строг, что тебя отделят полностью. Как-нибудь вечером, ночью, ты можешь выпивать с ними, особенно если потом они смогут объяснить, что встреча была случайной. Но наутро они подумают и решат, что продолжать знакомство слишком рискованно».
Как это ни грустно, но дипломат, похоже, был прав. И, тем не менее, в его словах была только часть правды.
Потому что за смятенными чувствами Миши я ощутил намёк на существование общества куда более сложного, чем я предполагал вначале, и наличие людей с куда более противоречивыми мотивами поведения, чем я мог вообразить. Совершенно ясно, что между Мишей и Леной был конфликт по поводу того, продолжать ли встречаться с нами, а потом я встречал и других русских, которые испытывали такие же противоречивые чувства по поводу встреч с иностранцами. Ведь тот же Миша вёл себя, как ребёнок, восхищаясь возможностью прокатиться в американской машине, восторгался её отделкой и мощностью.
Тем не менее, он был достаточно опытен для того, чтобы заранее посоветовать мне припарковаться наискосок от его дома, и не говорить по-английски, пока мы проходили мимо лифтёрши. Что было ещё более неприятным для меня, общество так отточило его политические рефлексы, что даже когда мы опрокидывали стопки и провозглашали тосты за дружбу, часть его мозга была сосредоточена на том, чтобы сменить последнюю цифру телефонного номера.
То есть в Мише была разом не одна, а две России – Россия официальная, то есть Россия полицейского контроля и Россия газеты «Правда», рекомендовавшие ему держаться подальше от контактов с иностранцами, а прямо напротив расположилась другая Россия, более человечная, импульсивная, эмоциональная, и непредсказуемая.Как мне показалось, когда я начал сопоставлять впечатления о том, что видел, проблема заключалась в том, что устоявшиеся представления о русских не включали в себя эту двойственность, эту сложность.
Модель тоталитарного государства полностью опускает завораживающие эксцентричные особенности жизни, текущей под поверхностью, готовность таких людей, как Лена, ослушаться неписанных правил системы. Противоположное, удобное предположение, состоящее в том, что русские не сильно отличаются от нас, упускает из виду те важные условности, которые система встроила в таких, как Миша.
Почти на каждом повороте реальной русской жизни, невероятность повседневных реальностей постоянно вынуждала меня корректировать мои собственные предубеждения.Кропотливые исследования западных кремленологов, к примеру, разоблачили миф о существовании коммунистического монолита, но не совсем подготовили меня к тому, чтобы услышать, как жена диссидента заявляет о том, что она – член партии, или к тому, чтобы провести вечер, слушая как партийный apparatchik рассказывает циничные анекдоты про Ленина и Брежнева.
Чем больше я оставался в Москве, тем больше спрашивал себя, не являются ли аномалии правилом. Я обнаружил, что несмотря на атмосферу агрессивного государственного атеизма, посещающих церковь людей в два раза больше, чем коммунистов с партийными билетами. Что в обществе, которое превозносит госсобственность, более половины жилья приватизировано, что в системе строго коллективизированного сельского хозяйства около 30% сельхозпродукции производится в частных хозяйствах, и большая часть выращенного продаётся на организованных государством частнопредпринимательских рынках. Что через 60 лет после свержения царя растёт интерес к жизни в царской России и к предметам того времени. Что, несмотря на строгий идеологический конформизм, налагаемый сверху, огромное количество народа политически индифферентно и частным образом высмеивает возвышенные лозунги коммунистической пропаганды. Что в стране, где хозяин – пролетарий, люди уделяют куда больше внимания статусам и чинам, чем на Западе.
Поделиться4605-03-2017 06:21:43
Введение. Продолжение.
Перед тем, как направиться в Россию, я отбросил миф о бесклассовом обществе, но я был изумлён, когда русские стали говорить о богатых коммунистах, даже о миллионерах. Вначале, когда два писателя спокойно упомянули о ком-то, что он «богат, как Михалков», я предположил, что Михалков был каким-то русским купцом из старых царских времён, сколотившим состояние на торговле мехами или солью. Но мне сказали, что этот Михалков, Сергей Владимирович, был коммунистом, чрезвычайно популярным детским писателем, литературным надзирателем и большой шишкой в Союзе писателей.
Позже он стал одним из первых, призвавших выслать Александра Солженицына, а также сделал много других литературных заявлений.Писатели даже озвучили цифру состояния, сказав, что как и Михаил Шолохов (автор «Тихого Дона»), да ещё, пожалуй, один-два писателя, Михалков легально заработал миллион рублей или близко к тому, от многочисленных переизданий своих книжек, и благодаря щедрым премиям, которыми награждался за преданную службу.
Они сказали, что у него два поместья в сельской местности, машина с водителем, хорошая квартира в городе, счёт в банке, и что он ведёт жизнь капиталиста.
Более того, похоже, что из семьи там ничего не уходит.Потому что у него два сына делают первые шаги в литературе, а его зять, Юлиан Семёнов, специализирующийся в написании шпионских романов и сценариев для телесериала, прославляющего КГБ (тайную полицию) только что за один присест заработал 100 000 рублей*.
*100 рублей официально равняются 133 000 долларов. Я избегаю тенденциозных сравнений покупательной способности рубля (поскольку на чёрном рынке он стоит около 30 центов). Я также игнорирую колебания официального обменного курса между 1971 и 1974 годом и использую среднюю цифру, то есть 1 рубль = $1.33 (прим. Хедрика Смита)
Несмотря на Михалковых, я понял, что деньги в России являются плохим мерилом. Я подробно расспрашивал переводчиков в своём бюро, посещал фабрики и заводил разговоры в ресторанах о том, сколько они получают, сколько тратят на еду и жильё, что стоит купить машину, и старался сравнить уровни жизни. Я добросовестно вёл все эти подсчёты, пока кто – то из русских друзей не сказал мне о том, что важны не деньги, но доступ, или blat (связи и знакомства, которые помогут достать, что нужно) – доступ к городам вроде Москвы, где в магазинах есть продукты, одежда и потребительские товары в количествах и в качестве, недоступных в других местах.
Доступ к лучшим школам и к лучшим местам для отдыха, или к личному автомобилю, или, что является самой ценной привилегией – возможность путешествовать за границу и легально общаться с иностранцами. Или доступ к сети специальных магазинов для элиты, где новый Фиат-компакт советской сборки стоит не обычные 7500 рублей (10 000 долларов), а всего 1 370 рублей (1825 долларов), а ждать получения машину нужно пару дней вместо обычных двух-трёх лет.
Мне пришлось также отвыкать от мысли, что Россия стала современной индустриальной державой, идущей в ногу с развитым Западом, поскольку эта концепция затеняет столько же, сколько открывает. За фасадом современности, ракет, реактивных самолётов и промышленной технологии, лежит отпечаток столетий русской истории, вдавленный в структуру советского общества, в обычаи и характер русского народа. Потому что она остаётся настолько исконной русской землёй, что вновь прибывшие, особенно американцы, с нашей склонностью к мгновенному пониманию, с нашим нетерпеливым отношением к истории, нашей зацикленностью на коммунизме, мы очень медлительны в том, чтобы проникнуть в её суть.
То там, то тут путешественник видит признаки очень традиционной страны: женщины метут городские улицы мётлами на длинных рукоятках, крестьяне, согнувшись в поле, обрабатывают землю мотыгами, продавцы в магазине складывают итог на деревянных счётах. Но прошло несколько месяцев, прежде чем я понял, насколько прошлое России довлеет над её настоящим.
За величественным представлением пятилетнего плана, как я понял, скрывается суматоха, поспешность и ошибочность в производстве, которая наносит такой непоправимый урон качеству продукции, что советские потребители научились проверять дату изготовления товара (примерно так же, как американские домохозяйки проверяют свежесть яиц) с тем, чтобы избежать покупки чего-то, сделанного в последние десять дней месяца, когда навёрстывался план. Вместо одной экономики, как выяснилось, Россия обладает пятью: оборонной промышленностью, тяжёлой индустрией, производством товаров народного потребления, сельским хозяйством и подпольной контрэкономикой, и у каждой из них – свои стандарты. Первая и последняя, похоже, наиболее эффективны. Все остальные – довольно посредственны. Навязываемые пропагандой образы ударников, без устали строящих социализм, рассыпаются в прах при первом же столкновении с ленивыми официантами, нерадивыми ремонтниками или неповоротливыми строителями.
«Это – рабочий рай: лучшее в мире место, где рабочий может сачкануть как следует» - как-то сказал мне один молодой лингвист. «Они не могут нас уволить».
Вот эта латентная анархия русской жизни и была для меня самым удивительным явлением. Безнаказанная безалаберность человеческих существ в системе правил. Я заранее знал кое-что о коррупции в СССР, но не мог даже и представить, насколько искусны русские в нахождении путей перехитрить систему, насколько коррупция влияет на основы повседневной жизни. Потом я встретил Клару, студентку Московского государственного университета. Семья Клары жила в захолустном провинциальном городке. Ей страшно не хотелось возвращаться по распределению к ним или быть распределённой как учитель куда-то ещё дальше, типа Сибири.
А в Москве ей нельзя было устроиться на работу, потому что не было прописки. (Паспортный контроль следит за тем, чтобы население Москвы не превышало 8 миллионов человек). Но Клара разработала схему брака с москвичом, жилищные условия которого позволяли ему прописать супругу. Один из её ближайших друзей рассказал мне, что Клара заплатила 1500 рублей (её годовая зарплата на первой работе составляла 2000 руб.) за фиктивный брак с братом другого друга, совершенно не планируя провести с ним ни единой ночи. Жених просто исчез после свадебной церемонии. Единственное, что Кларе было нужно, это отметка о браке в её паспорте, и полгода семейной жизни, для того, чтобы получить то, что называется propiska, то есть разрешение на жительство в Москве. Один учёный рассказал мне о паре из провинции, которая пошла ещё дальше, чтобы добиться привилегии жизни в Москве. Они развелись, и каждый из них снова сочетался браком, чтобы получить прописку. Потом они развелись со своими московскими супругами и поженились снова. Когда я взглядом усомнился в его истории, учёный стал настаивать, что это произошло на самом деле. Другие русские говорили мне, что буквально тысячи людей прибегали к так называемым «бракам по договоренности» для того, чтобы жить в таких городах, как Москва, Ленинград или Киев и избежать того, что они считают ссылкой в провинцию.Меня сильно удивляло то, что для противодействия властям задействуются такие хитроумные схемы и то, что русские, о которых сложилось мнение как о послушной нации, пускаются на такие уловки ради достижения своих целей. Поскольку понятие тоталитарного государства, возможно полезное в качестве общего взгляда для учёных, изучающих политику, не учитывает человеческого коэффициента. По большей части это верно: основная часть русских просто не задумываясь следует правилам. Но частным образом они очень часто прилагают громадные усилия и проявляют невероятную изобретательность для того, чтобы обойти эти правила, пройти сквозь них к своим личным целям. Как с усмешкой сказала мне одна женщина-юрист: «обман системы – наш национальный спорт».
Меня также утешило то, что, по моим наблюдениям, русские совсем не утратили импульсивной непредсказуемости поведения, свойственной персонажам Достоевского. Я был готов к тому, что диссиденты будут на чём свет стоит клясть следователей КГБ, и многие из них это делали, но совершенно неподготовлен к тому, чтобы услышать, как другие диссиденты говорили, что их дознаватели были вежливы, как не был готов к тому, чтобы узнать как с течением лет преследователи и преследуемые порой устанавливали личные связи.
Для меня стало сюрпризом, когда Иосиф Бродский, поэт-эмигрант, рассказал мне, что его гэбистский собеседник считал себя тоже немного писателем, показывал ему свою прозу и просил советов и критики.
Такое поведение вряд ли является типичным, поскольку иметь дело с политическим сыском любой страны является занятием опасным и происходит такое общение в сильно неравных весовых категориях. Я знал о проявлениях садизма и мелочной мстительности. Но я также знал советских людей, прошедших через трудовые лагеря, людей, которых нелегко запугать, в шутку называвших агентов безопасности, приставленных к ним «мой кагебешник».
Еврейская семья, полная горечи по поводу того, что во время визита президента Никсона в Москву в 1974 году их посадили под домашний арест, чтобы предотвратить демонстрации и заявления, рассказала мне о том, как милиционеры, которые их охраняли, ходили для них в магазин за продуктами. И потом со смехом рассказывали о том, как позже, встретив «нашего парня» в каком-то продмаге, один из членов их семьи кивнул ему в знак приветствия у полки с сахаром.
Одной из причин того, что жизнь советских людей так обманчива, заключается в том, что русские в совершенстве овладели искусством не выделяться, они являются мастерами принимать защитную окраску конформизма для того, чтобы выживать, или следовать каким-либо особенным интересам, которые, будь они открыты, станут недоступными. Важные элементы российской культуры и интеллектуальной жизни выжили благодаря этому. Во время преследования генетики при Сталине и Хрущёве, например, некоторые биологи находили убежище в химических или физических институтах. Они тайно проводили эксперименты в своей области, прикрывая свою реальную работу какими-нибудь фальшивыми опытами в другой сфере, или даже, как один учёный рассказал мне, ставили опыты на своей кухне. Кибернетики также вынуждены были вести схожее подпольное существование, когда были в загоне под клеймом «буржуазной науки».
Опять же, когда западные рок и джаз были публично заклеймены в прессе косными ревнителями коммунистической морали, несколько советских музыкантов спокойно организовали рок-группы и стали играть «запрещённую музыку». Каким-то образом, футуристические электронный музыкальные студии стали действовать в центре Москвы, сочиняя классные композиции самого модернового западного рока или музыки с космическим звуком, под пульсирующие блики стробоскопа и лучей, напоминающих лазерные. Вся эта сцена – побочный продукт приоритетного внимания, уделяемого советами радиоэлектронике, и одновременно получатель выгоды от этого внимания, находилась далеко за границами официальной терпимости. Да, сказали мне, власти знают об этом, и готовы сделать вид, что ничего подобного не существует, коль скоро это не привлекает внимания и не «скандально», как говорят русские.
Знаток электроники и любитель музыки, который взял меня в эту студию и устроил ошеломительное свето-музыкально-танцевальное представление, попросил меня тогда не писать статью об этом в газету, так как реклама может подвергнуть опасности хрупкое полуофициальное спонсорство. Такого же рода предосторожности были предприняты, когда меня провели на частный концерт очень тяжелого рока. «До тех пор, пока такие вещи не будут хоть как-то приемлемы на официальном уровне», - сказал мне один джазист, - «наше выживание зависит от того, что окружающие о нас не знают. Такова наша жизнь. Самые интересные дела творятся на частном уровне, там, где их не видно. Не только вам, иностранцу, но и другим русским тоже. Я знаю, для вас это звучит дико, но для нас – нормально».
Поделиться4705-03-2017 06:25:10
Введение. Продолжение.
Шансы на то, что иностранцы когда-либо что-нибудь узнают об этом, минимальны. Потому что советские власти возвели множество барьеров на пути нормальных, простых и открытых контактов между русскими и иностранцами. Те, кто едет в Россию с коротким визитом, обычно эскортируются в делегациях или в составе туристических групп к официальным туристским достопримечательностям, и всё время заняты в группах под руководством гидов-переводчиков, ведущих их с раннего утра до позднего вечера. (Несмотря на то, что я ехал в Россию со скептическим отношением к таким россказням, один из гидов Интуриста рассказал мне, что от них, гидов, КГБ требует подробных отчётов об иностранцах, откалывающихся от группы, о говорящих по-русски, об имеющих русских друзей или родственников, с которыми они могут установить контакт. Он даже показал мне комнату с дверью прямо в фойе гостиницы «Интурист» и описал другую в «Метрополе», где офицеры КГБ принимают их доклады.
«Некоторые гиды очень добросовестны в этом отношении, а другие не слишком озадачиваются», - сказал он. «Но делать это должны все. Если не сделаешь, то тебе позвонят и спросят, почему ты не отчитался).
Те, кто едет в Россию на длительный срок, живут за забором. Я помню наш первый подлёт к Москве на самолёте австрийской авиакомпании, и слова Анны, глядящей в иллюминатор на пригороды запада столицы под нами. Она воскликнула: «Смотри, там есть дома! Может быть, мы сможем жить в доме, а не в квартире для иностранцев?» Но выбирать мы не могли. Дома, которые она видела сверху, были бунгало, крестьянские izbas или дачи советской элиты. Как почти всех других дипломатов, бизнесменов и журналистов, работающих в Москве, нас просто поселили в многоквартирном доме, одном из полудюжины гетто для иностранцев, предоставляемых советскими властями зарубежным резидентам. Даже квартиру мы не могли выбрать. Возможность жить там, где мы хотели – среди русских – даже не подлежала обсуждению.
Вокруг нашей иностранной общины был проложен cordon sanitaire (фр. санитарный кордон).
Двор нашего восьмиэтажного многоквартирного здания на Садово-Самотечной 12/24 был наглухо закрыт от прохода к другим домам, где жили русские, трёхметровым бетонным забором, возведённым так близко к зданию, что парковать машину было очень неудобно. Единственным способом пройти в дом был проход под аркой, где 24 часа в сутки в будке стояли охранники. Они были одеты в обычную милицейскую форму, но на самом деле работали на КГБ.Советские власти тщетно старались убедить нас в том, что часовые были поставлены для нашей собственной защиты, но этот довод не выдерживал никакой критики. Однажды 12-летния школьная подружка нашей дочери Лори в ужасе позвонила из дома и сказала, что постовой остановил её и стал строго допрашивать, когда она хотела зайти к нам в гости. Он развернул её домой и она боялась повторять попытку, если только Лори не выйдет и не проведёт её (и эта подружка была единственной, потому что все другие школьные товарищи вообще не осмеливались приходить, разве что группой на день рождения). Когда я заявил охраннику, что детям не следует чинить препятствия, он слабо возразил мне, что старается защитить нас от «хулиганов».
В другом случае, Александр Глезер, коллекционер предметов искусства, хотел на дурачка проскочить мимо охранника в мой рабочий кабинет, находившийся в том же здании, бормоча несколько слов по-английски. Его схватили, продержали больше часа в будке – я мог видеть переполненное страхом его лицо через стекло -, пока я убеждал охрану отпустить его. Только когда вокруг нас собралась группа из нескольких корреспондентов, и охранники испугались того, что привлекут нежелательное внимание прессы по поводу столь незначительного события, они отпустили его. И снова их словами в защиты были те, что они, мол, охраняют нас от самозванца, хотя я его хорошо знал и несколько раз заявил им об этом.
Большинству русских даже и в голову не приходило отваживаться проникнуть в нашу карантинную зону. Существовала группа тщательно проверенных переводчиков, горничных, шофёров, уборщиков, ремонтных рабочих, отправляемых УПДК, советским госагентством, в посольства и жилища иностранцев, лица которых были знакомы часовым и проходивших беспрепятственно. Но простых русских останавливали и допрашивали. За три года моего пребывания в Москве практически никто не готов был проходить через такие испытания. Мы могли выезжать за нашими друзьями и привозить их к нам в нашей машине на нашу огороженную территорию, но после того, как мы проделали это пару раз, часовые стали подбегать к машине и заглядывать в окна, стараясь определить личность наших гостей и испугать их.
Другие люди, среди которых даже были известные во всём мире писатели или поэты, отклоняли предложения придти на обед. Я помню, как один писатель с содроганием сказал: «Не смогу находиться в такой атмосфере».
В другой русской чете, которую мы знали, жена, происхождением из семьи коммунистов и гордившаяся своей независимостью, утверждала, что её удерживает не страх, а нежелание отвечать на вопросы охранников по поводу того, кто она такая и почему имеет друзей-иностранцев. Её муж яростно возразил: «Как ты можешь такое говорить? Как можешь притворяться, что не боишься?» Он вздохнул, потом повернулся ко мне и сказал спокойным голосом: «Может быть она и не боится, а я боюсь».
Такого рода страхи придавали однобокость нашей дружбе с русскими: мы бывали у них в квартирах, но они никогда не приходили к нам.
Жизнь осложняли и другие способы контроля, типа прослушки телефонов, специальные номера для иностранцев, делавшие машины мгновенно узнаваемыми (наш код был К-04: "К" соответствовало «корреспонтенту», "04" – Америка), а также запрещение выезжать более чем за 25 км от Кремля без специального разрешения (получить которое значило затратить минимум неделю и часто дело оканчивалось отказом).
Однажды жучок в нашем телефонном аппарате был поставлен так халтурно, что звонивший попадал в отдел милиции. Я в тот раз отсутствовал, но мой коллега, Крис Рен, всё время принимал звонки на pult, то есть коммутатор. Понадобилось несколько звонков, прежде чем он понял, куда именно попадает, по вызовам звонивших с жалобами людей. Когда мы сообщили о проблеме, то починка линии была проведена с такой скоростью, с которой ни одна ремонтная работа за всё время моего пребывания в Москве не проводилась.Но если говорить честно, не только контроль мешает контакту иностранцев с обычными русскими людьми. В силу очевидных препятствий, очень немногие иностранцы предпринимают серьёзные и настойчивые попытки встретиться с русскими и узнать их, за исключением предназначенных для них официальных контактов.
Комфортный патернализм окутывает иностранную общину. Отсутствие выбора места жительства может представлять афронт ощущению свободы для человека с Запада, но оно избавляет его от хлопот по поиску жилья, и в то же время изолирует от случайных встреч с простыми русскими людьми. То же самое касается покупок. Советские власти организовали сеть специальных валютных продуктовых магазинов, в которых, хотя периодически и кончаются самые обычные продукты типа помидор, тунца, апельсинового сока или клубничного варенья, намного лучшее снабжение и они более дешевы по сравнению с простыми государственными магазинами.В результате очень немногие иностранки ходят в русские магазины или сталкиваются с тем, что значит для простой русской женщины делать покупки.
Точно таким же образом, большинство иностранцев передвигаются на машинах и не могут общаться с русскими, которые практически исключительно все садятся в автобус, трамвай, или спускаются в метро. Существование в гетто подкрепляется наличием в нём иностранных школ – французской, немецкой и англо-американской, организованных западными посольствами . Государственное агентство УПДК, поставляющее горничных и переводчиков, также даёт уроки балета, языка, физкультуры, и время от времени организует туристические поездки для жён дипломатов.
Каждое посольство крупной страны имеет в своём распоряжении загородный дом для отдыха на природе, пикников и вечеринок. Примерно в ста милях к северо-западу от Москвы, в Завидово, на Волге, находятся правительственные коттеджи, которые иностранцы могут арендовать для того, чтобы приобщиться к жизни деревенской России. (Один русский друг, имеющий катер и ходящий на нём по Волге, однажды получил суровое предупреждение от охранников держаться подальше от района, где могут быть иностранцы). К западу от Москвы, за живописным сосновым лесом, находится, на Москве-реке «дипломатический пляж». Но если иностранец попытается проникнуть подальше вдоль реки, где русские купаются или удят рыбу, его остановят милиционеры, которые запишут номера его машины и отправят, как всех иностранцев, в свою зону. Останавливаться на дороге, ведущей к дачному посёлку, также запрещено.
Следствием такой привилегированной сегрегации является то, что большинство иностранцев, даже восточноевропейцев, стараются держаться проторенных путей. Свои московские командировки они проводят в своём обществе, и время от времени выбираются в музеи и в турпоездки. И если исключить официальное взаимодействие с русскими, их жизнь вскоре начинает походить на продолжительный круиз на роскошном лайнере с одними и те ми же партнёрами, встречаемые ежевечерне за столом игры в бридж.
Но сколь бы удивительным это ни казалось, вся эта механика раздельной жизни совершенно не мешает любознательному, целеустремлённому иностранцу, говорящему по-русски, встречаться с русскими и узнавать их поближе. Однако эти ограничения, несомненно, ведут к тому, что по большей части те люди, с которыми иностранцы стараются общаться, являются людьми необычными в той или иной степени. И это обстоятельство, конечно, влияет на окраску восприятия России иностранцем.
Поделиться4805-03-2017 06:29:48
Введение. Окончание.
Целый слой людей, количество которых измеряется тысячами, был создан советской системой для работы с иностранцами.
Мы называли их «официальными русскими», но мы не имели в виду только государственных официальных лиц. Потому что этот слой распространяется на высокопоставленных журналистов, на гидов «Интуриста», переводчиков, специалистов института США и Канады или Института мировой экономики и международных отношений, высокопоставленных работников «Внешторга», партийных учёных и администраторов.
Практически каждое советское учреждение, начиная от Красной армии и заканчивая Союзом писателей или Русской Православной церковью, имеет свой отдел внешних сношений, предназначенный для связи с иностранцами.
Круг иностранцев тоже очерчен чётко, так что я, в своей поездке на Байкал, оказался окружённым теми же специалистами, что и Тед Шабад, другой репортёр Нью-ЙоркТаймс, десятью годами ранее.
Эти «официальные русские», имеющие лицензию на общение с иностранцами, имеют задание пропагандировать образ России в соответствии с линией газеты «Правда»: Россию научных успехов, социалистической рабочей демократии, и Россию как современное государство всеобщего благосостояния. Несмотря на то, что я имел рабочие отношения примерно с тридцатью такими людьми, было очень тяжело, хотя и возможно, понять, что они на самом деле думают о жизни, и узнать их близко в личном плане.Мой опыт был далеко не единственным.
Я знал посла Швеции, пробывшего несколько лет в Москве, который жаловался, что ни разу не был приглашён в гости его коллегами из МИДа. Как сказал посол, даже когда у его официального русского коллеги умерла мать, его держали на почтительном отдалении. Он позвонил в МИД, чтобы спросить адрес коллеги с тем, чтобы послать ему соболезнования и цветы, но министерство отказалось сообщить адрес. Ему посоветовали послать цветы на адреса МИДа. С другими иностранцами обращались по-другому, но результаты часто были похожими.
Саржент Шрайвер, юрист-международник и кандидат в президенты, рассказал мне, что не только был встречен в Москве на высшем уровне, но и приглашался в гости домой к нескольким руководителям и представителям Министерства внешней торговли. Гостеприимство было сердечным, по его словам, но разговор – сухим.
«У меня было то, что в дипломатии зовётся обмен мнениями», - сказал Шрайвер, «но у меня ни разу ни с одним русским не состоялось того, что мы с вами назвали бы разговором».
Для человека, находящегося в уютной гостиной дома на Западе, привыкшего к оживлённому обмену мнениями, свойственному открытому обществу, очень трудно представить себе, какое препятствие создаёт такой фасад некоммуникабельности. Меня часто спрашивали люди, живущие на Западе, составляет ли цензура проблему для репортёров, работающих в России. Фактически нет. Цензура на исходящие сообщения была отменена Хрущёвым в 1961 году, и большинство репортёров теперь уже не посылают свои статьи живьём по телексу или телеграммами (хотя фотографии должны проходить цензуру). У русских есть другие способы работы с журналистами, которые суют свой нос в дела, которые власть хотела бы скрыть. Самый распространенный способ – это преследования, выволочки за их статьи, обычно частным образом, но иногда и в прессе, вызовы на ковёр для отчёта. Время от времени прокалывают шины или журналиста избивают нанятые милицией бандиты для того, чтобы предотвратить нежелательные контакты. Однажды, во время моего пребывания, двух западных журналистов допрашивали сотрудники КГБ в ходе расследования уголовных дел, заведённых на диссидентов, что заставило бояться всех. Чаще всего, советский министр иностранных дел просто запрещает репортёрам выезжать за пределы Москвы или принимать участие в официальных интервью, если партия обидится на их статьи. Несколько раз это случалось со мной. Один раз, в качестве наказания, меня не включили в групповое интервью американских корреспондентов с Брежневым накануне встречи в верхах. И, наконец, корреспондентов высылают или вынуждают уехать, что случилось с четырьмя моими коллегами, пока я был в Москве.
И тем не менее, эти домогательства, на самом деле составляют меньшую проблему, чем цензура. Не та цензура, которая немедленно приходит на ум человеку с Запада, а самоцензура большинства русских, препятствующая их открытому разговору о своём обществе с чужими людьми. Для большинства народа – это привычка, родившаяся из страха и лояльности. Но в конечном итоге она происходит от общенациональной мании приукрашивать реальность во что бы то ни стало, и скрывать тайные пороки и достоинства русской жизни или неудобную правду, которая не соответствует коммунистической пропаганде.
Почти все в той или иной степени участвуют в негласном договоре, состоящем из того, чтобы не открывать тот факт, что советская жизнь не соответствует претензиям партии, идёт ли речь о лукавом утверждении, что произведения советских писателей не подвергаются цензуре, либо о сказке про то, как люди более 100 национальностей живут в СССР в счастливой гармонии, или хотя бы о глупой выдумке про то, что при социализме официантки не хотят получать чаевые и не нуждаются в них.
Само собой разумеется, что многие западные официальные лица и политики прилагают все усилия для того, чтобы обойти не удобные для них факты, но они редко прибегают к откровенныму, и часто ставящим в тупик позёрству или уловкам советских людей.
Советские официальные лица могут категорически отрицать, во время встречи с официальной делегацией американских юристов, что в СССР существует смертная казнь (хотя советская пресса регулярно сообщает о приведении в исполнение приговоров к ней), они могут утверждать, что эмиграция евреев и других граждан абсолютно свободна, будут настаивать на том, что медицинское обслуживание в советских лагерях для заключённых превосходно, (после случая смерти известного политзаключённого, умершего от операции по поводу язвы, которую провёл другой заключённый, поскольку профессиональной медицинской помощи не было) и делать другие заявления, которые способны лишь вызвать скептическое удивление у иностранца.
Отсутствие публичного обсуждения противоречий и независимой информации, которые могли бы внести корригирующий контекст, делает фасад Советского Союза более обманчивым по сравнению с другими странами. Посетитель может сколь угодно долго вглядываться в электростанции, автозаводы или автомобили, находящиеся в личном пользовании, пытаясь понять советскую Россию. Она не монолитна, но фасад её вполне выглядит таковым, и посторонний может полностью упустить из виду вещи совершенно неосязаемые, не различить те невидимые механизмы, которые отделяют эту страну от Америки, от Запада и даже от Восточной Европы.
Ещё одна проблема состоит в том, что советский человек иногда совершенно сознательно отгораживается от иностранца, даже если этот последний думает, что с ним лично говорят с полной доверительностью. Я помню, как один учёный-еврей рассказывал мне, что во время поездки в Америку, один западный учёный спросил его, существует ли в высших учебных заведениях Советского Союза дискриминация евреев. Они были вдвоём, и советский учёный сказал мне, что солгал коллеге, ответив, что дискриминации нет, хотя сам лично был очень расстроен неоднократно повторявшимися проявлениями этой самой дискриминации в своём отделе. По его словам, он боялся, что если бы он сказал ей правду, то об этом каким-либо образом узнали бы в Москве, и ему было бы отказано в поездках за границу. Он сказал, что говорит мне это только после принятия решения эмигрировать в Израиль, и после обрыва всех связей с советской системой.
Конечно, все государства, в той или иной мере стараются преуменьшить свои проблемы, стремятся показывать свои лучшие стороны, и пытаются произвести хорошее впечатление на посетителей, но советское общество, с его особенной честолюбивой утопической идеологией, впадает в крайности. Никогда я не видел более впечатляющего примера постановки, целью которой было произвести впечатление на иностранцев, чем косметическая операция по облагораживанию Москвы в преддверии визита Никсона летом 1972 года. Сжигались и сносились целые кварталы зданий. Сотни людей были переселены. Улицы расширялись и мостились заново, фасады домов красились, и новые клумбы с цветами устанавливались практически в канун визита. Даже наш дом, находящийся вдалеке от Кремля, был немного освежён на случай, если вдруг Никсон вздумает появится тут. При царе это называлось «потёмкинскими деревнями» по имени князя, который приказал возвести фасады фальшивых деревенских домов по пути следования Екатерины Великой для того, чтобы произвести на неё впечатление. В наши дни русские нашли для этого слово pokazukha.
Pokazukha есть понятие, объединяющее валютные магазины, привлекательные импортные товары в витринах ГУМа (которых нельзя, как правило, купить в этом магазине), а также образцовые колхозы и заводы, куда водят иностранцев, вплоть до таких мелочей, как подробные меню в туристических гостиницах. Напечатанные на глянцевой бумаге, русские меню могут включать в себя множество страниц, на которых разворачивается внушительный выбор блюд на четырёх языках. И только когда дело идёт к заказу, клиент вдруг оказывается лицом к лицу с реальностью, которая говорит ему о том. Что на самом деле только примерно треть из перечисленных блюд имеется в наличии.
Это явление настолько распространено, что коллега импресарио Сола Юрока сказал мне, что когда русские официанты подавали мистеру Солу меню и спрашивали, что бы он хотел заказать, тот отвечал: «Не надо мне меню и этих ваших: «Что бы вы хотели, г-н Юрок. Просто скажите, что есть».
Однажды я сам совершенно случайно был вовлечён в процесс создания показухи. Во время поездки в Баку я жил в гостинице у Каспийского моря, когда выяснилось, что в город приезжает с официальным визитом делегация иностранных послов. Подобно провинциальным бюрократам из «Ревизора», яркой гоголевской сатиры, весь персонал гостиницы начал наводить порядок, чтобы сделать отель более презентабельным. Коридорная собрала ключи от всех номеров, чтобы рабочие смогли нарисовать новые номерные знаки на дверях золотистой краской. Косоглазый электрик стал менять перегоревшие лампочки. Горничные начали мыть окна и протирать пыль. Входную дверь гостиницы и перила прогулочного тротуара вдоль морского берега покрасили заново. Обычные стеклянные пепельницы пропали со столов ресторана, а вместо них появились другие, более приятные для глаза. На каждый стол были поставлены большие белые гвоздики, а рядом с ними были положены новые меню с более высокими ценами для послов. Как сказал мне один из послов, точно такие же меры принимались и во всех других местах, которые они посещали.
Пускание пыли в глаза иностранцам порой напоминает национальный вид спорта. «У нас это получается само собой, - сказал мне один проницательный госчиновник, занимавший должность правительственного консультанта по внешней политике в ходе частной беседы у него дома. – «Это делается для нашей же выгоды. Обман является компенсацией слабости, чувства неполноценности, которое мы испытываем перед иностранцами. Как нация, мы не можем держать себя на равной ноге с другими. Либо мы сильнее, либо они. Это очень важная черта нашего национального характера». Когда я заметил, что сам этот комментарий является в какой-то мере опровержением его слов, он с улыбкой ответил, что является исключением из правил.
К счастью, он был не один, потому что я столкнулся с изрядным количеством таких исключений. Подобно Сарженту Шрайверу и многим другим, я провёл бесчисленное количество часов в некоммуникативных диалогах поверх столов, покрытых зелёным сукном, являющихся непременным атрибутом практически каждого советского учреждения. Но в другой обстановке, вдали от лишних ушей, и, либо для того, чтобы показать, какие они непростые люди, либо в силу того, что им надоело фальшивить, некоторые советские официальные лица раскрепощались. Политика могла по-прежнему быть табу (хотя и не всегда), но, как и другие люди, русские любят поговорить о своей личной жизни, и такие разговоры могут многое дать для понимания настоящей жизни общества. Им, как правило, льстит, когда иностранец говорит на их языке и они настолько терпимы к лингвистическим промахам иностранцев, что я быстро понял, как сильно мне нравится говорить с ними по-русски, да и они тоже, чувствовали себя более раскованно.
Во время продолжительной поездки по Кавказу, например, у меня была переводчица (помогавшая мне, но также и ограничивавшая мой контакт с советской жизнью), которая пускалась в горестные обсуждения своих проблем работающей женщины и в описания тяжёлой жизни советской женщины вообще. Во время торговой выставки, не находя собеседника, а также радуясь возможности поделиться проблемами отцовства, один партийный чиновник стал рассказывать мне о трудностях воспитания своих сыновей хорошими коммунистами, так как единственное, что их интересовало, это западный рок. Советский чекист, в обязанности которого входило надзирать над поездками иностранцев и над интервью с ними, поведал мне о том, как его удивила открытость американцев, а также показал мне в своём кабинете прекрасно сшитый костюм и несколько ярких галстуков, привезённых им из поездки в Америку. Многие другие примеры я не могу перечислять из опасения подвергнуть неприятностям моих друзей. Суть дела состоит в том, что вне официальной обстановки, русские начинают поворачиваться другой, более человечной стороной, отворачиваясь от официального фасада. Инстинктивно они дружелюбны, как тот же Миша. Возможно именно поэтому надзор за ними так силён, и официально русские почти всегда встречаются с иностранцами в группах.
Другие типы людей менее строго контролируются и могут в большей степени контактировать с иностранцами, а также проявлять к этому больше инициативы и испытывать при этом меньшую скованность, чем официальные лица. Это так называемые интеллектуалы истеблишмента: молодые люди, подпольные художники, диссиденты, евреи, собирающиеся эмигрировать. Некоторых из них интересует лишь немногим более, чем поддержание своей репутации либералов в глазах Запада, перспектива получения приглашения на поездку в Америку, или возможность попить джина и виски на приёме в посольстве, а во всём остальном они держат дистанцию. Некоторые молодые люди хотят просто купить джинсы, которые видят на вас, или пластинки. Художники норовят продать свои картины, а евреи и диссиденты хотят рекламы своим протестам. Но внутри каждой из этих групп находятся действительно интересные и способные дать информацию люди, которые критически, хотя и лояльно, оценивают своё общественное устройство. Они стремятся к внешним контактам и хотят поделиться опытом и идеями. Некоторые из них стали моими очень хорошими друзьями.
Заведование московской редакцией газеты Нью-Йорк Таймс представляло преимущество. Это давало мне большую возможность входить в кабинеты других высокопоставленных советских журналистов типа Правды, Известий и т.д. Те, кто поездил по загранице, были менее склонны к догматизму, чем госчиновники и официальные лица, обычно скованные в общении с западными журналистами и как правило вообще недоступны для общения. Таким журналистам нужно было поддерживать своё профессиональное самоуважение среди своих западных конкурентов. Сам факт того, что ты из «Таймс» помогал даже в отношении с простыми русскими, потому что советская пресса так часто цитировала это издание, стараясь заручиться достоверностью, что название газеты было хорошо известно русским. Я сделал правилом говорить людям при встрече, кто я такой. Некоторые при этом мгновенно настораживались. Многие, даже если вначале и с подозрительностью произносили : «А, журналист…», были заинтригованы. Некоторые даже стремились изложить какие-то незначительные жалобы или поделиться малозначимыми секретами, очевидно считая, что если их анонимность передо мной позволяет в большей степени поделиться своими мыслями с иностранцем, нежели с соотечественником.
Однажды меня буквально одолела телефонными звонками пожилая женщина, которая дребезжащим от старости голосом настаивала, что хочет со мной поговорить при личной встрече. Я с неохотой согласился. Она описала, как её с мужем – инвалидом вселили, в нарушение всех жилых норм, в однокомнатную квартиру, и как официальные лица отказывались улучшать её жилищные условия. Она описала мне, как жаловалась в ЦК КПСС, и с невероятной решительностью требовала, чтобы я написал в своём издании о её горе, после чего советские власти, конечно же, решат её проблему. (Моя реакция была как раз противоположной – я считал, что в таком случае у неё будут серьёзные неприятности). Более заурядным был случай с человеком, который раздобыл каким-то образом мой телефон и позвонил мне, говоря с прибалтийским акцентом, с рассказом о тои, как плохо охранники обошлись с ним, когда он попытался проникнуть в американское посольство… и на этом его голос в трубке оборвался на полуслове.
Однако самыми удивительными для меня были случайные встречи с людьми по всей стране. Мы с Энн обнаружили, что чем дальше от Москвы мы отъезжали, тем менее зажатыми и оболваненными были люди, с которыми мы виделись. В национальных республиках типа Грузии, Литвы, Армении, Узбекистана, Эстонии, Азербайджана, даже Украины, люди обычно были более откровенны, чем чувствительные к политике москвичи. Изрядное их число было настроено критически по отношению к советской системе в силу их откровенно антирусских настроений. Проблемой всегда было найти место, где можно было бы поговорить: будь то ресторан, театр, купе поезда или зал ожидания аэропорта.
Западные люди, особенно американцы, всегда торопятся, когда путешествуют. В России мы почти всегда ездили на поездах, потому что обнаружили, что российские поезда удобны и что в них легко сходиться с людьми. Однажды я в течение пары часов сидел в вагоне-ресторане за тарелкой борща и бутылкой кислого водянистого пива в компании с приземистым и крепким на вид директором совхоза, который объяснял мне, как он обманывает социализм, выращивая свою собственную отару овец. В другой раз ко мне подошёл латвийский инженер в очках с толстыми линзами и сказал, что вычитал где-то, как американцы изобрели очки, корректирующие дальтонизм, попросил меня помочь достать ему такие, и стал рассказывать об изъянах советских строек. В тамбуре местного ночного поезда Баку-Тбилиси, идущего по кавказским горам строитель делился со мной хитростями получения работы за границей, для чего надо пройти лабиринт проверок благонадёжности и присутствовать на множестве политинформаций, чтобы потом пользоваться благами зарплаты в валюте.
Я играл в триктрак с двумя советскими лётчиками-истребителями в течение нескольких часов, при этом один из них опрокидывал то водку, то виски, обнимал мою жену, потому что её звали как его сестру, и похлопывал меня по спине, повторяя: «Значит ты - настоящий американец». Все другие американцы, которых он видел, были пилотами самолётов – разведчиков, с которыми он крылом к крылу летал над Белым морем во время игры нервов в ходе холодной войны.