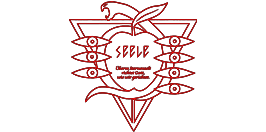*1. Unblessed hand
/Шотландия, Ист-Лотиан, октябрь 1507 г./
Эсток вошел в живую плоть до упора.
Даже под стеганым охотничьим дублетом видно было, как вздулись мышцы
предплечий, пока он удерживал секача на границе неизбежной смерти, не
давая сорваться в жизнь. Я смотрел на него и думал, как же мы с ним
различны, различны во всем.
Упор эстока устоял, кабан хрипел, псари отгоняли плетьми собак,
вгрызающихся жертве в подбрюшье и горло. Адам, взмокший от тяжкой
работы, полоснул по трепещущему кабаньему животу дагой так, что
открылась глубокая рана. Взял мою правую руку и окунул в кровь. А после
указательным пальцем своей, также окровавленной, начертил литеру у меня
на лбу. Я смотрел на ладонь: ее покрывала пеленой кровь - блестящая и
липкая, она пахла сначала свежей жизнью, затем, свертываясь на воздухе -
смертью.
- Это только начало, - заметил Адам. – Ты же – unblessedhand, Джон…
Начало и конец для тебя, Джон Хепберн.
Но что я тогда знал о конце? И что мог подозревать о начале?
Ясным полднем в конце октября мы отправились в леса вблизи Трапрейна. Мы
– это я и Адам, понятное дело, Адам Хепберн, мастер Босуэлл, мой старший
брат, старший сын и наследник господина графа. Мне сравнялось десять в
том году, и вот он желал не просто приобщить меня к таинству охоты, но
ввести во взрослость, обозначить, как мужчину. Ибо мужественность – то,
к чему я подходил постепенно, последовательно, то, что искал всю жизнь,
однако постиг, когда уже и не ждал. Возможно, потому что путь мой
начался не как у всех: по достижении шести лет троих из нас, каждого в
свой черед, оторвали от Хейлса, Адам отправился пажом в дом своего деда
Хантли, Патрик и Уилл оказались у Хоумов. Отец не отпустил Уилла и
Патрика в Нагорье, предпочтя родню по бабушке. Не могу сказать, что
безбашенность этой семейки пошла моим братьям на пользу. А после по ним
прошлись Сомервиллы и Гленкэрны– двое средних сыновей Босуэлла
появлялись дома лишь изредка, только чтобы чинить неприятности младшему.
Я же именно в шесть перенес весеннюю лихорадку, надолго меня ослабившую,
чем еще раз подтвердил бытовавшее у отца ощущение моей никчемности. Мать
не доверила меня пажом никому. Джон станет мужчиной, сказала она,
независимо от того, что вы о нем думаете…
Кабана подколол я, но добил его Адам. Правду сказать, в охоте самое
любопытное выследить, не именно нанести удар, но брат в тот день
требовал удара. Мы спустили собак и несколько минут смотрели, как секач
расшвыривал их – он очень хотел жить, но, кроме того, глубинная ярость
бушевала в нем от того, что твари эти, лающие вокруг, смеют покуситься
на его свободу.
- Давай, - торопил мастер Босуэлл, - ну же! Выбери момент, ничего сложного…
Тогда мне не нравилось убивать. Я и вообще жил в мире, большая часть
которого мне не нравилась, но примириться, склониться – то был не мой
путь. Также начатый после шести.
Свежевали и разделывали тут же.
Мы чувствовали себя королями жизни, не знаю, как Адам, а я уж точно:
уйти на сутки из Хейлса – что может быть лучше? Что может слаще
отпечататься в памяти? Запах ранней осени в листве, во влажной земле,
солнце на лице, запах свежей крови, запах разжигаемого костра,
согревающего, обещающего негу, отдых усталым мышцам. В седле я
блаженствовал, в драке освежался, однако и протянуться возле огня всегда
был не прочь. Мардж говорила мне, что я – кот, недоразумением посланный
на землю человеком. Камышовый кот с берегов Тайна. Я люблю осень, хотя
три утраты в моей жизни произошли именно осенью. Но это было потом.
Тогда же, прикрыв глаза, я валялся на плаще у костра, следя, как
радужные пятна плывут в щель полусомкнутых век, дробятся между ресниц…
Адам же говорил. Со мной он чувствовал себя достаточно спокойно, чтобы
почти всегда говорить. В бремени безупречности, которое висело на
мастере Босуэлле, в броне совершенства появлялась трещина уязвимости,
блик тепла – и в такие моменты я его особенно любил. Меня ему можно было
не опасаться.
Раймонд Луллий, Мэлори и его «Смерть Артура», Жоффруа де Шарни, Вегеций…
господин граф, не скупясь, набивал библиотеку Хейлса наилучшими
образцами литературы, трубящими о рыцарстве, ибо надо же было манерами
соответствовать свежеобретенному титулу, если не ему, то его сыновьям.
Наследник Босуэлла должен быть стать идеальным рыцарем, цветом рыцарства
- выше, чем пресловутый Дуглас, - должен был быть красой и гордостью
королевского двора. Вот только никто не спрашивал Адама, в какую цену
доставалось ему то цветение добродетелей. Адам зачитывался романами, был
поэтичен. Я же – нет, волшебный мир был сызмала чужд для меня, я видел
вокруг лишь жестокую плотность реального мира, его хрящи, связки, жилы,
мясо, содранную с него шкуру. И все это, правду сказать, казалось мне
ничуть не менее привлекательным.
Адам приподнялся с плаща, чтобы подтолкнуть в огонь выпиравшую ветку. В
этом был он весь – даже на огонь не способный смотреть спокойно, чтоб не
принять участие. И продолжил начатое сравнение:
- Вегеций говорит прямо: молодой человек, сурового вида, со взглядом
непреклонным, с прямой шеей, широкогрудый, крепкого сложения, с
мускулистыми, крупными руками и длиннопалый, с широкими коленями, но
узкими бедрами, и достаточно быстрыми ногами для бега и прыжков.
Кажется, ты вполне подходишь под описание.
Мы спорили о том, какое тело необходимо мужчине, чтоб преуспеть в бою.
- Скорей уж, ты, Адам. Широкогрудый и с большими руками…
- Дело наживное. Тебе десять, и ты все еще растешь. Нарастишь!
Вообще-то он тоже еще рос – но уже больше в мясо, вширь, чем ввысь. В
шестнадцать Адам Хепберн был почти на голову выше собственного отца, и
только ему господин граф позволял подобное превосходство. Что Уилл, что
Патрик, бедняги, сами собой начинали сутулиться, оказавшись вблизи
родителя. Меня же чаша сия миновала. Мне было десять, верно, но я уже и
тогда отличался от братьев, и знал это. И знал это не только я. Поэтому
я просто кивнул. Это же Адам! Он не способен жить по-другому – только
верить в хорошее, поступать наилучшим образом.
- Из тебя получится великолепный рыцарь, Джон, превосходящий прочих.
- Я никогда не научусь убивать.
- Я тоже так думал.
- Ладно. Я никогда не научусь убивать так, как это делаешь ты.
Я разумел – с той степенью отстраненности, которая лишает жестокости
мяснический труд, однако он понял по-своему:
- Или ты думаешь, что мне это нравится – убивать?
Я не думал.
- Убийство животного, как сегодня, совершенное ради пропитания не есть
убийство. Облеченное правилами, оно – уже искусство.
- То же, как полагаешь, можно сказать и про убийство человека?
- Язвишь! – старший хмыкнул. – Отец Катберт был бы доволен…
А я, между тем, знал, что Адаму уже довелось. Весной граф, путешествуя
по Приграничью в должности Хранителя Марок, взял его в Лиддесдейл – там
и случилось. Граф хвалил наследника, наследник помалкивал, не отвечая на
подколы братьев. Я же не мог избавиться в себе от томительного, острого
любопытства – и страха – ощутить, как клинок пронзает не кабанью, но
человечью тушу. Может, это и есть грех? Может, всему виной мое странное
крещение – виной этой неодолимой, пугающей тяге?
- Убийство человека я никогда не назову искусством, - помолчав, молвил
Адам. – Ибо мы разрушаем тогда оболочку божественного духа – оболочку, и
созданную по образу Божию. Убийство – всегда грех. Но кто мы такие,
чтобы сопротивляться предназначению, промыслу, поставившему именно нас с
обнаженным мечом в руке – на страже основ этого мира? Нет, Джон, не
насилие ради насилия, не насилие само по себе. Однако насилие, чтобы
обуздать насилие – волей Господа и честью благородного человека.
Убийство, совершенное волей Господа и честью благородного человека…
порядок в изначальном хаосе воздвигается странной ценой, однако вкус
этой дихотомии я ощутил много позже. Тогда мне было хорошо – так хорошо,
что помню спустя полвека. Брат видел меня рыцарем – в ту минуту я и был
им. Его слова прикрепляли мне шпоры, обвивали перевязью под меч,
покрывали мантией… А он говорил:
- Насилие – зло, Джон, но зло неизбежное. Насилие из рук человека
добродетельного – способ изгнать дьявола из темных, грязных честью,
больных духом. Кто, если не мы?
Насилие в Приграничье – не тема для обсуждения в беседах юношей, а
воздух, которым дышишь, однако Адам дышал иным.
- Мы поставлены хранить и защищать. Мы, рожденные высоко. Знаешь, что
означает древний девиз нашего рода?
- Иду навстречу.
- И это тоже. Но это если коротко, а так… «Не зови понапрасну, ибо я
всегда прихожу на встречу». Ведь воздаяние неминуемо…
Солнечный луч осени играл в его глазах.
Адам, свет полдня. Я запомнил его таким. И таким всегда вспоминаю даже
теперь. Ибо тогда мы были в раю. Ничто не было определено, но все
предвкушаемо. Ни на одном из нас не было ни греха, ни скверны, ни крови,
ни похоти – в тех пределах, к которым мы подошли позднее. Легкий топот,
едва различимый - на границе слуха, затем явное приближение всадника в
нашей стоянке, гомон и смех кинсменов. Гонец скатился с седла и,
задыхаясь, поклонился:
- Ее милость требует вас домой, мастер Адам.
Вот так рай и был развоплощен.