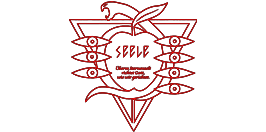иначе в чём смысл
ХОД КРОТОМ
Сообщений 51 страница 60 из 741
Поделиться5131-07-2019 23:37:32
Поделиться5202-08-2019 08:45:04
Джина просияла. Русоволосый тоже улыбнулся. Стаканы сдвинулись, опустели и стукнули о столешницу. Затем компания поднялась и вышла на площадь Капитолия, под жаркое июньское небо.
***
Небо потемнеть не успело, как дошли до искомого двадцать шестого нумера в Штатном переулке. Здесь Кропоткин когда-то давно родился; сюда же вернулся год назад из-за границы, когда пал царский режим и дымом развеялся смертный приговор “князю анархии”, как не упустили случая припечатать Кропоткина щелкоперы.
Особняк выглядел, как все вокруг: ярко-зеленое железо крыши, солнечно-желтый фасад, белые колонны парадного крыльца, деревянные, крашеные под мрамор.
За крыльцом открывалась передняя, а из нее окнами на улицу выходила анфилада парадных комнат. Сперва зала, большая, пустая и холодная, с рядами стульев по стенам, с лампами на высоких ножках и канделябрами по углам, с большим роялем у стены, где танцевали, устраивали вечера. Затем шла “большая” гостиная, тоже в три окна. Диван, круглый стол перед ним, и большое зеркало над спинкой дивана. По бокам дивана пара объемных кресел. Между окон небольшие столики с узкими зеркалами во всю стену; столики, как и прочее из орехового дерева, обитые шелком. Впрочем, большую часть времени дорогой шелк покрывался от пыли белыми грубыми холщовыми чехлами.
Здесь Кропоткин их и встретил. Сам он сидел в большом кресле у стола, просматривая лист рукописи, который тут же отложил, поднялся и очень радостно приветствовал как Скромного, так и нисколько не знакомого матроса. Петр Алексеевич в том году выглядел значительно моложе своих шестидесяти пяти - просто крепкий мужчина в светло-светло голубой рубашке, широких брюках, застегнутых “по-городскому”, в обыкновенных туфлях. Бородатый по русской моде, с обветренным лицом путешественника, с тонкими крепкими пальцами много писавшего и делавшего много тонких работ человека. Ростом он превосходил Скромного на пол-головы, матросу же вполне предсказуемо уступал настолько же, однако же полностью равняясь с Корабельщиком шириной плеч.
Лист отправился в стопку таких же, на круглый стол. Из двери “малой гостиной” выглянула Софья Григорьевна, жена Кропоткина, и также радушно, без малейшего намека на нежеланость внезапных гостей, спросила по старинному обычаю Москвы:
- Обедали ли?
Гости не обедали, но Скромный из волнения отказался; матрос же отказался по другой причине. Чаю им выпить, разумеется, пришлось: не обижать же старика, четверь века скитавшегося по тюрьмам и чужим домам, и только сейчас вернувшегося, наконец, домой. Поместили тужурки прямо на спинки стульев, а оружие на маленький круглый столик. Большая часть вещей уже была упакована для скорого переезда в Дмитров, но самовар оставался. Чай Кропоткин пил истинно по-московски, вприкуску с сахаром: он освоил это умение, скитаясь по Забайкалью, играя в любительских пьесах московских купчиков, да этак ловко, что даже написал брату восторженное письмо. Дескать, брошу все, пойду в актеры...
Пошел, однако, иным путем. И вот сейчас принимал очередных взволнованных гостей.
Скромный говорил приветствие - он сам потом не помнил, что именно - и видел через открытый проход в “малой” гостиной светлые квадраты на полу от пары окон, видел цветной фонарь у потолка, дамский письменный стол, на котором никто никогда не писал, потому что стол полностью уставлен был фарфоровыми безделушками, пахнущими духами на весь дом.
За “маленькой” гостиной, чего уже не видели гости, шла уборная, угловая комната с огромным трехстворчатым зеркалом-”трюмо” для одевания и накрашивания женщин. Вход в спальню не просматривался, и так же не просматривался вход в низкие служебные комнаты: девичьи, столовую, кабинет. Где-то там открывался и черный выход в просторный двор с людскими, конюшней и каретным сараем. Нынче все эти постройки пустовали. За месяц с начала лета трава успела подняться до пояса; несколько приземистых, давно уже пустоцветных яблонь, шумели под ленивым ветерком... Пока матрос разглядывал двор, Скромный осилил пару блюдечек чаю и несколько пришел в себя. Теперь они с Кропоткиным беседовали о том, ради чего украинский анархист не один месяц пробирался в Москву от самого Таганрога, и уже потому беседу стоило послушать.
Скромный печалился:
- ...У левых эсеров, как и у нас, анархистов, хороших желаний очень много, но нету людей на такое грандиозное дело. Оставаться же на прежнем пути эсерам нельзя: большевики разобьют их одним авторитетом Ленина и Троцкого... Увы, партия большевиков уже настолько опьянела от своей фактической власти в стране, что...
Кропоткин молчал, слушал, тихонько прихлебывал остывающий чай, не выражая пока ни одобрения, ни порицания. Скромный рассказывал со сдержанной горечью:
- Я приехал учиться. Увы, все то, что я услыхал в Москве, за чем наблюдал... - тут он выразительно покосился на матроса, - и в наших анархических рядах, и в рядах социалистов, большевиков-коммунистов и левых эсеров... Тот или другой товарищ, осевши в Москве, шатается совершенно праздно или же находит занятие по плечу лишь организации. А он берется за неподъемное лишь с целью показать, что делом занят...
Скромный замолчал и выпил остывший чай одним глотком. Налил из самовара еще блюдечко, посмотрел сквозь поднимающийся пар. Сказал глухо:
- Это все меня угнетало подчас так тяжело, что я собирался прекратить все свои наблюдения, все свои знакомства и дела, и уехать без всяких документов...
Кропоткин покачал головой, поинтересовался голосом негромким, но ясным:
- А зачем вы собираетесь обратно на Украину?
- На конференции решено поднять восстание в первых числах июля. Это вовсе уже не тайна ни для кого, как мой товарищ открыл мне... - Скромный выложил из-за пазухи томик Платона, вздохнул. Положил сверху небольшую книжечку “Спутник партизана”, сразу привлекшую внимание Кропоткина отличным качеством печати.
- Позвольте... - князь анархистов перелистал книжечку, вчитался в нее быстро, полностью подтверждая свою репутацию ума сильного и проницательного.
- А это уже новая, революционная орфография? - спросил старик, и сам же себе ответил:
- Ну да, ведь заходил же ко мне Луначарской третьего дня. Именно такой проект. Календарь уже привели к общемировому, теперь и правописание... Реформа! Никаких “ер”, долой “ижицы” с “ятями”. Проще, четче, и гляньте, как прекрасно пропечатано. Эх, нам бы тогда такие книги! - старик бережно положил томик поверх Платона, поглядел на Скромного:
- Сделайте к ней обложку, как для томика стихов. Жандарма так не обманешь, но их нынче немного. А для поверхностного взгляда, случайной проверки, пригодится...
Поглядел на развернутую Скромным карту Екатеринославской губернии. Затем на обоих гостей. Почесал бороду обеими руками.
- Какой же вам нужен совет?
- Честно сказать, после известного разочарования в людях я беспокоюсь: поддержат ли наше восстание массы? Даже в моем кружке анархистов Лев Шнейдер стал на сторону силы. Он первый среди гайдамашни вскочил в бюро нашей группы, первый начал рвать наши знамена, портреты Бакунина... Ваш портрет! Александра Семенюты, которого якобы так любил... Вместе с хулиганами он разгромил библиотеку. Даже иные шовинисты и то подбирали нашу литературу, и передавали потом нашим товарищам, что вернут потом когда угодно, по нашей первой просьбе... Коль так, стоит ли мне совать голову в паровозную топку? Не так страшно смерти, как больно увидеть гибель всего нашего дела от позорного равнодушия и трусости!
Кропоткин прищурился, растеряв старость и благодушие вмиг:
- Категорически отказываюсь вам советовать. Этот вопрос связан с большим риском для вашей, товарищи, жизни, и только вы сами можете правильно его разрешить.
- Посоветуйте же мне тогда, стоит ли держаться единства с Москвой, с центром, либо действовать в одиночку, не полагаясь на поддержку России?
- На это вопрос, пожалуй, ответить несложно. Я, помнится, уже как-то писал... Да, десять лет назад... - Кропоткин с удовольствием выпил стакан чаю уже безо всякой игры с блюдечком, прищурился в пляску теней за окном, разве только пальцами не шевелил, а выглядел точь-в-точь Корабельщиком, когда тот “смотрел внутрь”.
- Всю свою жизнь я стоял за право на самостоятельное развитие каждой народности, - ясно произнес Кропоткин. - Вполне понимаю, какие чувства должны были развиваться в украинском народе по отношению к Российской Империи. Но сейчас Империи нет. И вот что я могу сказать из опыта. Самым страшным поражением было бы образование по всей территории России независимых государств. В них повторилось бы все то, что мы видим в балканских государствах... Отчасти и в скандинавских. На Балканах палку воткни - завтра пойдет виноградом; скандинавы снабжают мир железной рудой превосходного качества. Но то и другое нищая окраина Европы, а почему?
- Почему же? - в один голос воскликнули гости.
- Они малы по сравнению с соседями. Балканские царьки, как и скандинавские парламенты, ищут покровительства у соседних царей. Те же вселяют им всякие завоевательные планы, втягивают их в войны, а тем временем грабят экономически, выдавая на войны кредит. Возвращать же кредиты приходится, как вы понимаете, отнюдь не из царских карманов! Да вы заезжайте ко мне в Дмитров, дом Олсуфьева на Дворянской улице. Разберем библиотеку, нынче все уже уложено. Я вам найду письмо “К украинскому народу”, его распубликовали ровно год назад. В том письме все изложено ясно и последовательно.
- Что же, с удовольствием зайдем. Благодарим за приглашение, - Скромный допил блюдечко и тоже отставил его, неохотно выпрямился, взял тужурку.
- Нам пора идти.
Матрос поднялся быстро, вернул на место кобуру, влез в кожанку, попрощался кивком; Кропоткин отметил очень густую синеву глаз Корабельщика. Кивнул матросу - тот вышел. Тогда патриарх посмотрел на Скромного:
- Нужно помнить, дорогой товарищ, что борьба не знает сентиментальностей. Самоотверженность, твердость духа и воли на пути к намеченной цели побеждают все.
И анархист коротко наклонил голову, словно бы козырнул в ответ.
***
Ответ из “комнаты 40”, легендарной английской радиоразведки, принесли очень быстро, но только ничегошеньки бумага не прояснила. Первый Лорд Адмиралтейства Уинстон Черчилль посмотрел на Премьер-Министра его величества Георга, пятого этого имени, Ллойд-Джорджа:
- Сэр... Верно ли я понял радиоперехват? Социалисты в Москве готовили покушение на барона фон Мирбаха, у меня точнейшие сведения, несколько раз проверенные по абсолютно не связанным друг с другом источникам. По непонятным причинам акт сорвался. И вот здесь указано, что немцы снимают с фронта проклятые морские цеппелины эскадры Штрассера. Радиоперехват свидетельствует, что из Нордхольца отозваны три самых новых цеппелина, объемом по семидесяти тысяч, с потолком до тридцати тысяч футов. Командир - лично Петер Штрассер.
- Тот самый, что продвигал флотские дирижабли, кто практически создал эти войска?
- Именно. И такого-то воздушного волка отзывают с фронта. Якобы, для оказания большевикам какой-то невнятной помощи. Чем же большевики купили немцев, что кайзер спустил им даже покушение на посланника?
- Золотом? Хлебом Югороссии? - Ллойд-Джорж почесал вошедшие в легенды усы. - Но и хлеб, и репарации уже в руках гуннов.
- Сэр Мансфильд поручил своему человеку выяснить это на месте. Сами понимаете, результат мы получим нескоро. Между тем, объяснение этим фактам Его Величество затребует у нас уже завтра!
***
- Завтра непременно в Совнарком, - анархист подтянул пояс, взвесил на руке сумку с Платоном и “Спутником партизана”, обряженном в обложку стихов Пушкина.
- Больше меня в Москве ничего не держит.
- Вы очень хотите в Совнарком?
- Во-первых, товарищи говорили мне, что большевики могут помочь с документами для пересечения границы. Во-вторых, интересно поглядеть на Ленина и Свердлова живьем. А в-третьих, я хочу знать кто вы есть. Вы же обещали что там я все увижу своими глазами. Признаться, утомился в ожидании какого-либо вашего действия.
- Награда дождавшимся. Это как в засаде на уток сидеть, раньше времени шевельнетесь - улетят.
- А честно?
Корабельщик огляделся. Стояли на углу Штатного и Остоженки. Солнце перевалило за половину, день катился к закату, но катиться ему еще оставалось изрядно: почти равноденствие. Трамвай звенел и здесь, уходил к тому же Храму Христа Спасителя; и даже мальчишки, казалось, бежали за ним все те же. Вокруг на все стороны расстилалась одноэтажная Москва, барская Москва, Москва особняков и усадеб. Все те же крыши железные, крашеные в зелень, пахнущие на жаре суриком - когда-то давно их красили “под медь”, которой покрывают богатые дома в Европе, и которая от времени сама покрывается благородной зеленой патиной. Непременно крыльца с колоннами: где побогаче, мраморными, где попроще - кирпичными, где совсем просто - вовсе деревянными, оштукатуренными, белеными. При каждом доме изрядный кусок земли, огороженный где посеревшим деревом, где чугунной решеткой в кирпичных столбах, где поросший вместо забора густейшей сиренью, отцветшей не так давно.
Корабельщик не запрокидывал голову и не вертел пальцами - видимо, на вопрос анархиста его невидимые книги ответа не содержали. Наконец, матрос глухо выговорил:
- Честно? Я тоже боюсь. Пока что все мои ужимки и прыжки, по слову Петра Алексеевича, только не Кропоткина, Романова: “младенческие играния, а искусства ниже вида.”
- Какого еще Романова?
- Что в Питере на медном коне змея давит.
Скромный хотел спросить ехидно: неужто слова те вы лично слышали? Но потом подумал, что Корабельщик может и ответить: правда, слышал, а вору Алексашке Меньшикову лично в морду подносил, а с чернокнижником Брюсом кушал рейнское. Что тогда? Верить в его трехсотлетнюю жизнь? Сомневаться? Нет уж. Всего-то сутки знакомы, можно потерпеть еще столько же ради разгадки.
Корабельщик прищурился на Солнце, вздохнул:
- После Совнаркома обратного пути не будет.
- Поэтому?
- Поэтому - завтра. Не то я из страха дооткладываюсь, что вовсе ничего делать не стану.
- А где мы будем ночевать сегодня? Опять у генерала?
Вот сейчас Корабельщик привычно забегал пальцами по незримым листам; довольно скоро нашел нужное:
- Тут рядом Брусилова дом, в Мансуровском переулке.
- Которого Брусилова? Того самого?
- Ну да, который устроил “Брусиловский прорыв”. Да только сам-то Алексей Алексеевич покамест в госпитале. Осколок поймал, когда большевики с юнкерами из гаубиц пересмеивались. Так что пускай нас ищут по генералам, а двинем-ка мы к поэтам. И двинем большим кругом через Арбат, чтобы снова на Храм не выходить.
- Пожалуй, вы правы. Корабельщик, но если завтрашняя встреча так важна, и от сегодня еще изрядно светового дня осталось, присядем где-либо в приличном трактире, в кабинете. Я хочу по карте поспрашивать - потом-то, небось, недосуг сделается?
Вместо ответа Корабельщик вытянул руку:
- Вон, “Голубятня”, на углу Первого Зачатьевского переулка. Ее с началом войны закрыли, да там неподалеку наверняка что-то есть.
***
- Есть ли у достопочтенного герра минутка для бедного коммивояжера?
- Франц, полно вам прибедняться. Представьте вашего спутника.
- Герр Хуго, это tovaritzch из России. Его имя пусть пока сохранится в тайне.
- Даже так? И что же удерживает меня от приказа спустить вас обоих с лестницы?
Спутник Франца решительно выступил на свет и одним движением вытащил из портфеля трубку плотной бумаги. Герр Хуго Эккенер - плотный седой немец - недоверчиво покосился на развернутую по столу карту.
- Карта России?
- Герр Эккенер, станете ли вы отрицать, что Германия проиграла войну?
Наследник недавно умершего графа Цеппелина непроизвольно сжал пальцы - но возражать не приходилось. Призывали в строй уже шестнадцатилетних; а вместо хлеба везде подавали “эрзац-брот” из кукурузного жмыха и бог знает, чего еще. Не имело смысла кидаться словами, чтобы озвучить простую истину: лето восемнадцатого Рейх не переживет.
- Вы можете поискать себе место в Америке, - неприятно улыбнулся гость. Эккенер смотрел на него снизу вверх, и отмечал прежде всего темно-темно синие глаза. В остальном вполне обыкновенный молодой человек, наверное, какой-то подающий надежды недоучка-инженер, делающий карьеру поиском и сооблазнением зарубежных фигур... Сама Россия ничего серьезного в небе не совершила. Ну, самолеты Сикорского. Так ведь Хуго Эккенер имел немалый пай в концерне “Цеппелин-Штаакен”, и по части сверхтяжелых бомбардировщиков давал фору кому хочешь. На фоне немецких “Гота-гроссенфлюгцойге” самолеты Сикорского выглядели всего лишь не хуже. К тому же, было их немного, и ничего подобного налетам на Англию русская армия так и не организовала.
- Короче! - Хуго посмотрел на карту. Москва... Значок причальной мачты, тут все понятно. Красные линии с подрисованными силуэтами дирижаблей. Тоже несложно... Боже, куда же они гонят эти красные линии? В Америку, что ли? На самом краю карты, как его... Anadyr? Моржовую кость вывозить на семитонниках? Вот Владивосток, про этот город Хуго Эккенер хоть что-то слышал.
- И вы...
- Я предлагаю вам поле славы в одну шестую всей земной суши. Я могу предложить это американцам из “Гудьира” либо вашим соотечественникам из “Шютте-Ланц”. Но сегодня только ваша фирма имеет опыт напряженного производства больших дирижаблей большими сериями, опыт перелетов от Англии до Танганьики. Вы же, помнится, возили в Африку из болгарского Ямбола винтовки на L-59?
- Но корабль добрался только до Хартума, - возразил немец чисто машинально, - затем англичане подбросили умелую фальшивку о капитуляции отряда фон Леттов-Форбека, цель полета исчезла, пришлось вернуться.
Гость не улыбался. Он смотрел на карту, как старик Цеппелин некогда смотрел на грозовое небо. Франц отступил чуть в тень. Эккенер поморщился:
- Но мы воевали с Россией. Мы, собственно, и сейчас в состоянии войны.
- Вы воевали с Империей. Мы - Республика. Нам нужно связать воедино громадную страну. Нам нужно, чтобы дирижабль приходил в Анадырь каждую неделю, во Владивосток вдвое чаще, а на Урал, в Ташкент, Ростов, Мурманск - ежедневно. Герр Хуго, в наших руках сокровища русских царей. Желаете, например, алмаз “Орлов”?
- Реликвию из скипетра?
- Грош цена реликвии, которая не спасет свой народ в тяжелый час. Мы не трясемся над прошлым. Желаете ларец уральских самоцветов? Или прикажете запросто русским золотом по весу? Все это - пфеннинги перед концессией на воздушные сообщения над одной шестой частью суши. Geld verloren - nichts verloren! Mut verloren - alles verloren.
Пословицу Эккенер, конечно же, знал: “Потеряешь деньги - ничего не потеряешь. Потеряшь смелость - потеряешь все.” Только вот он давно уж не мальчик, чтобы на такое ловиться.
- У вас неплохой хохдойч.
Не отвечая на комплимент, гость хлопнул по карте ладонью:
- Нам нужны школы пилотов и техников, газовые заводы и пункты обслуживания, метеостанции. Сотни тысяч обученных людей и тысячи, тысячи, тысячи ваших машин в небе. Герр Хуго, мое предложение стоит уже не денег, и вы это знаете. Я предлагаю вам бессмертие - просто возьмите и впишите свое имя в историю!
- Ваша щедрость говорит о том, что в в крайней нужде и стеснении.
- Верно.
- Ведь не завтра же вам это все нужно?
- Нет, конечно, герр Хуго. Нам это нужно вчера.
***
Вчера вечером они шли по Лубянке, а сегодня с полуосвещенной Тверской Скромный и Корабельщик повернули в совсем уже темный Настасьинский переулок и начали на ощупь, подсвечивая золотистыми буквами чудесной бескозырки, пробираться вдоль стен маленьких одноэтажных домиков к единственным в проулке двум тусклым фонарям. На чугунных стойках фонарей огромный плакат расцвеченными вычурными буквами анонсировал выступление трех поэтов: Каменского, Маяковского и Бурлюка; приписка уведомляла, что Маяковский и Бурлюк нарочно для этого приехали на несколько дней в новую столицу из прежней. Фамилия Луначарского - наркома просвещения - хоть и красовалась на виду, а набрана все же была шрифтом помельче, и слабо читалась в неверном тусклом свете давно не чищенных газовых горелок.
- Выбрали же место! Черт ногу сломит.
- Зато искать нас вряд ли тут станут.
- Соглашусь... Черт побери! Что это?
- Кафе футуристов. Я читал у кого-то, в Питере собака была на вывеске.
- А тут вовсе по ногам шныряет. Неужто их чудачествам вовсе предела нет? Ах да, я знаю, что вы ответите: что я сам все увижу. Я бы не прочь, будь здесь фонари поярче.
- Что же, вот подъезд почище... Этот адрес.
– Им и имя Луначарского не поможет. Дыра. У нас в Екатеринославе такой дыры не видал. Никто не станет сюда ходить!
Вошли в помещение; первым встретил их молодой, красивый, сияющий широкой “волжской” улыбкой, парень. Поздоровался вежливо, не выказывая ни фальшивой радости, ни презрения к провинициалам - чего, признаться, Скромный опасался.
– Прошу в зал, – пригласил этот молодой человек. – Там диспут о новом искусстве.
– Что, и сам Луначарский приедет? – не поверил Скромный.
- Так вот же Анатолий Васильевич!
На самой середине зала, окруженный женщинами и молодыми людьми в разнообразнейших пиджаках, модных одеждах и гимнастерках, начищенных туфлях и сапогах, стоял внушительный мужчина с высоким лысым лбом, в превосходном костюме черной шерсти, в монументальных очках, с уверенным, твердым и потому симпатичным выражением лица.
К нему обращался один из молодых людей - высокий, тоже с четкими чертами лица, с азартным его выражением; сдвинутая на затылок шляпа подпрыгивала в такт жестам.
По сторонам зала, вдоль стенок за многочисленными столиками, едва освещенными чем попало, от электрических ламп до свечей в плошках, теснилась публика. Суровые, мужественные лица парней в гимнастерках и френчах перемешивались с бледными, истертыми физиономиями молодых людей, выглядевших старше своего возраста в результате бессонных ночей и пристрастия к алкоголю. Один из таких франтов как раз доказывал товарищу:
- Настоящий поэт должен быть худым и бледным! Вот Байрон, чтобы избавиться от розовых щек, долгое время питался бисквитами и лимонами.
- Эх! - отвечал товарищ. - Сейчас бы нам бисквита!
Заняли свободный столик под вполне благожелательные взгляды соседей. Скромный огляделся: много женщин, не только молодых, но и весьма пожилых. Некоторые одеты претенциозно. Вот одна из них укутана в необыкновенно пеструю шаль. Заметила взгляд Скромного, представилась:
- Графиня Рок! - и отвернулась, не дожидаясь ответного представления. Рядом скромно одетая барышня. За одним столиком с ней мужеподобная поэтесса, лихорадочно покрывающая блокнотик четверостишиями, дирижирующая в такт потухшей дамской сигареткой.
Вообще в кафе не было слишком уж накурено, но запах табака решительно превозмогал запах еды. Полусвет рисовал собравшимся неузнаваемые лица, меняющиеся с каждой секундой. Комната упиралась в эстраду, в грубо сколоченные дощатые подмостки. Прямо в потолок ввинчена лампочка, сбоку маленькое пианино, а сзади – фон оранжевой стены.
Снова хлопнула дверь, вошли двое. Один в костюме и туфлях. Второй в сапогах, синей поддевке, простой шапке, шея обмотана шарфом. Когда он снял шапку, то копна светлых волос спала на лоб. Из-под расстегнутой поддевки виднелась косоворотка с расшитым воротом. Синие глаза парня светились добротой, задором и удалью, что сразу привлекло всеобщее внимание. В наступившей тишине привратник сказал:
- Это поэты Николай Клюев и Сергей Есенин.
Парень, споривший с Луначарским, обернулся к вошедшим, приветствовал их взмахом руки. Всмотрелся в косоворотку и проворчал:
- Как человек, носивший и относивший желтую кофту, спрашиваю: это что же, для рекламы?
Есенин ответил неожиданно слабым голосом; Скромный внезапно подумал, что если бы лампадное масло умело говорить, вышло бы самое оно:
- Мы деревенские, мы этого вашего не понимаем.
- Пари держу, что вы эти лапти да петушки-гребешки бросите! - спорщик повернулся к Луначарскому и пояснил:
- Стихи Сергея Александровича очень способные и очень деревенские. Нам, футуристам, конечно, враждебны, - и с нарочитой грубостью вновь атаковал наркома прежними вопросами.
Привратник обнял вошедших за талию и отвел к свободному столику, рассказывая, как он рад видеть их здесь, на диспуте.
Чуть в стороне полноватый молодец в безукоризненном костюме, но с хулигански разрисованными щеками, перебирал тезисы своего доклада, искоса с довольной улыбкой наблюдая за выражением лица наркома.
У кого-то в кармане часы пробили десять. Полноватый молодец, поигрывая лорнетом, вышел на середину, к спорящим, и громко потребовал тишины. Когда же публика успокоилась, провозгласил:
– Слово имеет наш добрый друг и гость нарком Луначарский.
Раздались аплодисменты. Анатолий Васильевич ограничился краткой речью:
– Пусть останется больше времени для диспута. Молодое советское искусство должно отражать великие перемены, происходящие в нашей стране, только такое искусство будет иметь будущее!
– Будущее – это футуризм! – раздался громовой голос высокого спорщика в шляпе.
– Если он будет верно отражать великие перемены, – парировал Луначарский. Спорщик возразил - Скромный не вслушивался, что именно. Все равно здешних шуток он почти не понимал; хотя, на удивление, не ощущал и скуки. Кто хотел - слушал диспут. Кто не хотел - пил некрепкий чай, закусывая бутербродами с чем попало, вполголоса болтая о своем, не мешая соседям.
Скоро участники диспута разлетелись по углам, остались Луначарский и тот парень в шляпе, обменивающиеся остротами. Порой полноватый парень с чайкой на щеке бросал острые словечки, срывая аплодисменты. Собрание вели по очереди спорщик в шляпе, полноватый раскрашенный и улыбчивый волжанин-привратник. Время катилось к полуночи. Поэтесса с блокнотиком уже бормотала стихи про себя, время от времени аплодируя удачной фразе полноватого. Просто одетая барышня только раз глянула на Скромного и тотчас отвела глаза. Корабельщик, оперевшись плечами на стену, то ли спал с полуприкрытыми веками, то ли погрузился в собственные мысли.
Некий пожилой человек, сильно волновавшийся при выступлении волжанина, попросил слова. Высокий спорщик с избыточной учтивостью, сразу насторожившей Скромного, переспросил:
– Простите, дорогой товарищ, как ваше имя и отчество?
– Какое это имеет значение? Не достаточно ли будет, если я назову вам свою фамилию?
– А как ваша фамилия? – с той же учтивостью осведомился высокий.
– Охотников.
– Прекрасно, товарищ Охотников. А теперь назовите ваше имя и отчество.
Собрание настороженно прислушалось. Разговоры смолкли.
– Если вас это так, интересует, извольте: Николай Аристархович, - пожилой мужчина недоуменно пожал зелеными вельветовыми плечами.
– Дорогой Николай Аристархович, к сожалению, я не могу нарушить устав нашего клуба. Выступать у нас на диспутах имеют право только те товарищи, имя которых совпадает с их отчеством.
– Что за чепуха! – Охотников даже всплеснул руками; блеснули залоснившиеся локти.
– Простите, дорогой Николай Аристархович, – мягко пояснил рослый, – это далеко не чепуха. Я имею право здесь выступать только потому, что меня зовут Владимир Владимирович Маяковский.
Тут он показал на волжанина-привратника:
- Это Василий Васильевич Каменский. А Бурлюк, - жест в сторону полноватого, - Давид, сын Давидович.
Зеленый вельветовый Охотников отозвался более насмешливо, нежели обиженно:
– А Луначарский? Насколько мне известно, его зовут Анатолий Васильевич?
Публика уже вовсю хохотала, словно в цирке. Маяковский поднял руку. Дождавшись перерыва в раскатах смеха, ответил с той же нарочитой учтивостью:
– Дорогой Николай Аристархович! Неужели вы не понимаете, что для столь высокого гостя мы не можем не сделать исключения? Все-таки нарком просвещения!
Раздался новый взрыв хохота. Бедный Охотников, после некоторого колебания, выбрал из двух зол меньшее: остался на месте. Понимал, что если пойдет к выходу, хохот еще больше усилится. Впрочем, волжанин Каменский поспешил и его утешить неразличимым за шумом добрым словом.
Скромный ощутил как-то вдруг, что сцена эта будет описана во множестве мемуаров и просто в книгах, и покосился на Корабельщика. Тот не рукоплескал и не хохотал во все горло, но тоже улыбался:
- Это мы удачно зашли. Я-то сперва собирался в Камергерский переулок, в “Питореск”. Просто туда тащиться дольше.
За соседним столиком барышня спрашивала у графини:
- Вам какие же поэты больше нравятся?
- Пушкин, - вздыхала та, поправляя вырвиглазной расцветки шаль. - Ну, Сергей Александрович тоже хорошо пишут, только очень уж неприлично.
Мужичок из-за третьего столика, маленький, нахохленный, этакий заточенный в клетку человеческого тела воробей с умным, деловым взглядом столетнего ворона, прибавил мрачно:
- Плохо, ой плохо кончат Сергей Александрович: либо кого-нибудь убьют, либо на себя руки наложат.
И оглянулся, чтобы сам Сергей Александрович не услыхал. Но Есенин как раз говорил спутнику:
- Что ни говори, а Маяковского не выкинешь. Ляжет в литературе бревном, и многие о него споткнутся!
Маяковский же в эту самую секунду отвечал наркому:
- Есенин? Из всех имажинистов он единственный останется, вот увидите. Чертовски талантлив!
И, оглянувшись через плечо, прибавил:
- Смотрите, Есенину ни слова, о том, что я говорил.
Затем, выйдя уже сам на середину, провозгласил:
– Ну, что ж, давайте разговаривать на тему – кому чего надо? Кто что желает? Или, например, кто какие стихи пишет? Вот сидит особая планета поэзии – Витя Хлебников. Это ведь совершенно замечательный, просто гениальный поэт, а вот вы его не понимаете. Вам больше нравятся Северянины, Вертинские. Дешевая галантерея: брошки из олова, розовые чулочки, галстучки с крапинками, цветочки из бумаги. Вся эта лавочка свидетельствует о том, что у вас нет вкуса, нет культуры, нет художественного чутья!
- Владимир Владимирович, полно хвалить за глаза. Стихи его прочтите, сразу и поглядим, кто чего стоит!
Хлебников откашлялся и прочел, почти не играя интонацией:
- О, рассмейтесь, смехачи!
О, засмейтесь, смехачи!
Что смеются смехами, что смеянствуют смеяльно,
О, засмейтесь усмеяльно!
О, рассмешищ надсмеяльных — смех усмейных смехачей!
О, иссмейся рассмеяльно, смех надсмейных смеячей!
Смейево, смейево,
Усмей, осмей, смешики, смешики,
Смеюнчики, смеюнчики.
О, рассмейтесь, смехачи!
О, засмейтесь, смехачи!
Собрание замолчало несколько недоуменно; тут черти двинули матроса под руку, и Корабельщик ехидно хмыкнул:
- Вот оно, искусство единственного слова.
В отгорающей после декламации тишине прозвучало громко, насмешливо. Публика заворчала, поэты загудели; Скромный подумал: “Ну, сейчас будет!”
Высокий спорщик сдвинул шляпу на затылок, поднял руку и снова дождался тишины.
- Скажите, пожалуйста, товарищ, а как ваше имя?
- Корабельщик, - выпрямившийся матрос оказался выше спорщика на пару пальцев. - Предупреждая ваши следующие вопросы, скажу, что имя и отчество я открыть не могу по чисто служебным обстоятельствам.
- А я вас помню, - сказал молодой человек в гимнастерке. - Вы же третьего дня в особняке Морозова открыли заговор Блюмкина. Я же вам показывал, где умыться.
Скромный схватился за наган в кармане. А говорят, Москва - большой город. Большая деревня! Все всех знают.
- Яков и сюда заходил, бывало, - сказал кто-то, и по залу зашелестел разговор о неудавшемся убийстве немецкого посланника барона фон Мирбаха. Матрос присел было назад и приготовился задремать - но ведущий собрания вовсе не собирался отпускать его так просто.
- Скажите, товарищ Корабельщик, - снова учтиво поинтересовался высокий, - а где вам случалось наблюдать иные образцы искусства единственного слова?
Матрос, понимая, что футуриста ему не переюморить, поднялся вновь и вышел на середину. Обозначил поклон. Публика взирала благожелательно, так что Корабельщик простер указующую длань и начал хорошо знакомым анархисту голосом, будто бы и негромким, но разборчивым в самом дальнем углу:
- Ехал пафос через пафос! Видит: пафос! Он такой...
Матрос поглядел на собственную протянутую руку, словно впервые увидел, пролепетал вопросительно:
- Пафос-пафос-пафос?
И сам себе грозно ответил:
- Пафос!
Махнул рукой, прогремел:
- И вперед на смертный бой!
Скромный тоже не выдержал - заржал. Не культурно засмеялся, а именно что заржал конем. Очень уж выразительно менялся матрос в ходе кратенькой речи. Корабельщик снова обозначил поклон и сел.
- Молодой человек, - серьезно сказал ему подошедший Каменский, - а вы не чужды театру. Как вы смотрите на то, чтобы впустить его в свою жизнь?
Корабельщик улыбнулся приветливо, не хуже широкой улыбки волжанина:
- Вполне положительно. Только пускай сначала цирк из нее выйдет.
***
Выйдя поутру на Тверскую, Скромный и Корабельщик поглядели на восходящее со стороны Кремля Солнце.
- А вы, значит, и в литературе разбираетесь?
- Да ерунда! - Корабельщик махнул рукой, - я вас научу вмиг. О чем бы речь ни зашла, говорите: композиция-де неудачная, вступление перетяжелено. Оно у всех перетяжелено, подавать сюжет плавно мало кто умеет. Любому критику беспроигрышная завязка.
- А потом?
- А дальше смотрите. Если человек в себя ушел, задумался - значит, что-то понимает. Его, конечно, можно дальше высмеивать. Но лучше не надо, лучше пускай он хорошую вещь напишет. А вот если кинулся доказывать, слюной брызгать... - Корабельщик растянул губы в неприятной улыбке. Помолчал, зевнул и приговорил:
- Этак лениво ручкой делаете и роняете: мол, вкусовщина! И все, дальше стойте на своем. Дескать, нечего мне добавить. Моя позиция неизменна, не маятник.
- Запомню, - серьезно сказал анархист, - а сейчас что?
- А сейчас в Совнарком. Настроение аккурат. И вилять некуда: вот он, Кремль.
***
Поделиться5302-08-2019 09:36:33
- А дальше смотрите. Если человек в себя ушел, задумался - значит, что-то понимает. Его, конечно, можно дальше высмеивать. Но лучше не надо, лучше пускай он хорошую вещь напишет. А вот если кинулся доказывать, слюной брызгать...
Фцытатнег!
Поделиться5402-08-2019 10:12:18
- Этак лениво ручкой делаете и роняете: мол, вкусовщина! И все, дальше стойте на своем. Дескать, нечего мне добавить. Моя позиция неизменна, не маятник.
Методичка многих крытегов.
Поделиться5502-08-2019 14:05:46
КоТ Гомель
- И вперед на смертный бой!
Скромный тоже не выдержал - заржал. Не культурно засмеялся, а именно что заржал конем.
_тоже_ - а кто ещё? Такое впечатление, что предложение вывалилось, про всеобщую реакцию на Пафос.
Спасибо! Больше Пафоса... то есть да здравствует наш воздухоплавательный флот, самый большой флот в мире!.. по тоннажу, по объёму, по "дальнобойности".
Отредактировано Лунатик (02-08-2019 14:18:35)
Поделиться5602-08-2019 15:50:08
Киров репортинг!
Поделиться5702-08-2019 18:43:03
Блин, только сейчас опознал Скромного - это же сам Махно!
Поделиться5802-08-2019 18:55:42
А меня до сих пор интригует личность генерала, которого отговорили ехать на Дон.
Поделиться5902-08-2019 19:34:40
А меня до сих пор интригует личность генерала, которого отговорили ехать на Дон.
Деникин?
Хотя не, он в Могилёве был.
Каппель - то ли в Перми, то ли в Самаре.
А нужен генерал, проживающий в Москве. Не арестованный\освобождённый.
Отредактировано Т-12 (02-08-2019 19:41:26)
Поделиться6002-08-2019 22:47:26
А меня до сих пор интригует личность генерала, которого отговорили ехать на Дон.
А вы прочитайте главу "Карта Екатеринославской губернии", там имеется вот какой абзац:
- С эсерами вы эсер, с генералами вы офицер... Кстати, у кого мы ночь ночевали? Кто Андрей Андреевич, кто Сергей Степанович? Генералы-заговорщики?
Корабельщик пожал плечами, поглядел несколько выше царских орлов, и повертел пальцами в воздухе, словно бы листая невидимую книгу:
- Ага. Есть. Вот, Андрей Андреевич Посохов, брат контр-адмирала Посохова. Так, но Сергея Степановича в списках почему-то нет...
- В каких еще списках его нет?
- Да ни в каких нет. Ни по инфантерии, ни по кавалерии, ни по инженерии. Даже в конвойных и тюремных командах не значится такого генерала... Хм. Странно. Кто же он на самом деле - призрак или человек?
- Может, он вовсе и не генерал, и не военный. Может, родственник. Тесть, брат, зять.